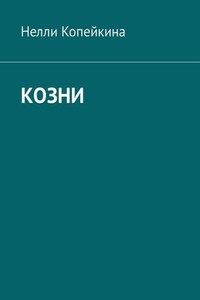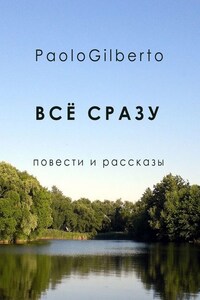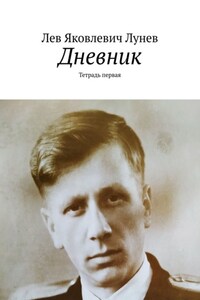Ветер февральский злой, неугомонный, как сто чертей – бросает пригоршни ледяных колючек в лицо, шлифует скулы, словно наждачной бумагой. Потом поутихнет на время и тут же вновь стеганёт батогом, с оттяжкой жгучей по неприкрытым частям тела. Неуютно Притыкину Михаилу – голову втягивает по самые плечи, прячась с заветренной стороны дома нужду малую справляя. Оставив на сугробе желтый автограф, спешит в дом. Сам себе под нос, хлопая перекошенной дверью: «Ох, и сучий февраль!». Ему, Притыкину, можно принципиально и с крылечка… либо в ведро – один живёт, но под воздействием культурного наследия от старой жизни, пока не проделывал этого.
Сейчас у него – новая жизнь, личная. Бабу он похоронил с полгода назад. Сегодня как раз полгода. На печке что-то доваривается, в доме грязь и густая тенета по углам. Даже зеркало почти не отражает Притыкина. А он редко в него заглядывает – боится увидеть себя одного старого и несчастного, а может и само зеркало боится увидеть небритое и грязное существо. Порой Михаилу кажется, что в доме вообще никого нет, даже его самого, и тогда непомерная печаль перемешанная со страхом, овладевает им. В такие моменты он начинает тщательно ощупывать свои ноги, руки, убеждаясь в их наличии а значит и всего остального в теле, включая печень, селезёнку и что там ещё внутри… даже зычно крикнет на всю избу: «Эх, жисть бекова!..» После этих процедур ему сразу становится легче. А сегодня могут быть и гости. А могут и не придти. Надо же всем напоминать, что его бабе уже полгода… а была ли эта баба, Притыкин даже стал сомневаться. Да вроде была.
Вещи её перебрал в старом шифоньере, фотокарточки посмотрел. Вдвоем жили – детей не было. Если бы не эти старые фотографические изображения, то он бы толком и лицо своей супруги не вспомнил, настолько оно становилось размытым в сознании. Может от того, что не любил?.. Или в ней темперамента особого не было – лежала в постели холодная, как бревно – не достучишься до желаний… а может сам Притыкин стучаться, как полагается не мог?.. Но хоть и бревном она была – всё ж веселее время короталось. После её смерти Михаил ошкурил чурку в два метра и положил рядом с собою в кровать, чтобы легче переносить одиночество. Даже болтал с ним иногда, обнимал.
В дверь постучали. Вошел Кабанцов Вася, с большим сизым носом из которого текло от холода – бобыль преклонных лет со стажем. В деревне все его называли Вася-утконос. Посидели, помянули покойницу самогоном. Долго молчали, посапывая.
– Бабу свою стал на лицо забывать, – нарушил молчание Михаил. – Порой думаю, а была ли она?
Кабанцов рассеяно глядя на пустой стакан, развил сюжет:
– А я так и приблизительно не скажу про свою, но помню с бородавкой была. А вот жратву она хорошо готовила. Жратву вот помню, а лицо – нет. Только вот эту бородавку… слева от носа… или справа… от носа. Это от того, Миша, что нет любви, однако. Да я, правда, к ней шибко и не присматривался – так мелькала, мелькала и убралась потихоньку…
– Да, все мы по краю ходим… а любовь, Вася, она есть… – вздохнул тяжело Михаил.
Ещё опрокинули по полстакана ядреного напитка, крякнули, захрустев солеными огурцами. Кабанцов ковыряя вилкой в зубах, продолжил тему:
– По мне счас покажи голую задницу и лицо моей бывшей, я так сразу и не определюсь, где что… вот так!
– Может, у неё лица и не было? – спросил Притыкин, пьянея и глупея.
– Как это не было?!.. Была бородавка, значится, и лицо было! – обиделся гость. Просто она не была красавицей, вот и всё.
– Бородавка, она, где угодно прицепится, а я вот что, Вася, подмечаю, – хозяин вновь плеснул в стаканы. – Подмечаю, что все бабы, особенно у нас в деревне, как бы на одну морду – какие-то стандартные… то ли от того, что их знаешь как облупленных, то ли… а может красивых и отродясь тут не было?