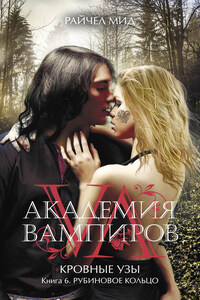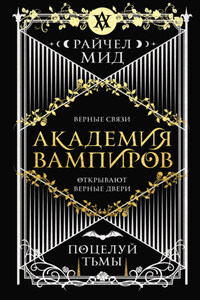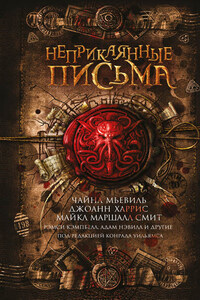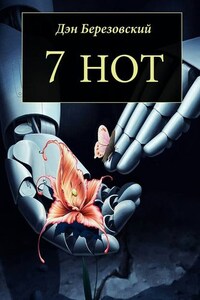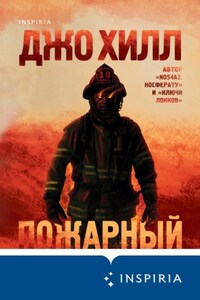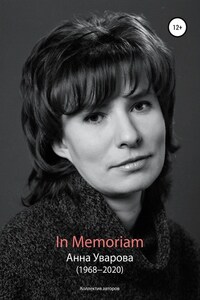Моя сестра вот-вот попадет в неприятности, и у меня всего пара минут, чтобы ее выручить.
Она этого не видит. В последнее время она мало что видит, в том-то и проблема.
«Мазки неправильные, – говорю я ей на языке жестов. – Линии кривые, и часть оттенков ты передала плохо».
Чжан Цзин отступает от своего холста. Изумление на ее лице тут же сменяется отчаянием. Такие ошибки появляются у нее не в первый раз. Чутье подсказывает мне, что и этот не станет последним. Я чуть повожу рукой, предлагая ей передать мне свою кисть и краски. Она колеблется и обводит взглядом студию, проверяя, не наблюдают ли за нами соученики. Они поглощены собственными картинами: их стимулирует мысль о том, что Наставники вот-вот придут оценить нашу работу. Их спешка почти осязаема. Я повторяю свой жест, на этот раз более решительно; Чжан Цзин отдает свои инструменты и, посторонившись, позволяет мне действовать.
Я стремительно принимаюсь за холст, исправляя ее недочеты, – приглаживаю неуверенные мазки, утолщаю слишком тонкие линии, песком промокаю те места, где тушь легла слишком густо. Каллиграфия поглощает меня – как поглощает любое изобразительное искусство. Я забываю об окружающем мире и даже не особо замечаю, о чем именно говорит ее работа. Только закончив исправления и отступив назад, чтобы оценить результат, я осознаю, какие именно новости она регистрировала.
Смерть. Голод. Слепота.
Еще один мрачный день в нашем поселке.
Мне нельзя на этом сосредотачиваться: вот-вот могут войти Наставники.
«Спасибо, Фэй», – говорит мне знаками Чжан Цзин, а потом забирает инструменты.
Я отрывисто киваю и быстро возвращаюсь к своему полотну у другой стены. Пол сотрясается, возвещая о приходе Старейшин. Я глубоко вздыхаю, радуясь, что снова смогла избавить Чжан Цзин от неприятностей. Однако с облегчением приходит и ужасающая мысль, которую я больше не в состоянии отрицать: моя сестра слепнет. А это – серьезная проблема в поселке, где никто не слышит.
Необходимо изгнать эти мысли и натянуть на лицо маску спокойствия: мой Наставник приближается, шагая мимо рядов картин. В поселке шесть Старейшин, и каждый обучает не меньше двух подмастерьев. Как правило, каждый Старейшина знает, кто придет ему или ей на смену, но из-за множества несчастных случаев и болезней подготовка дублера становится необходимостью. Некоторые из подмастерьев все еще конкурируют между собой за право стать заменой своему Старейшине, но мне за свое положение можно не тревожиться.
Старейшина Чэнь уже подошел, и я сгибаюсь в низком поклоне. Его темные глаза смотрят мимо меня, на мою работу, зоркие и внимательные, несмотря на его преклонный возраст. Его одежда – синяя, как и на остальных, но туника поверх брюк длиннее, чем у подмастерьев. Она доходит ему почти до лодыжек и украшена пурпурной шелковой нитью. Я всегда рассматриваю эту вышивку, пока он проверяет; мне это не надоедает. В нашей повседневной жизни очень мало красок, так что эта шелковая нить становится ярким, драгоценным пятном. Любая ткань является здесь роскошью, ведь нам с трудом удается добывать хлеб. Рассматривая пурпурную вышивку Старейшины Чэня, я вспоминаю старые легенды о королях и аристократах, которые одевались в шелка с ног до головы. Этот образ на мгновение ослепляет меня, унося из студии, а потом я моргаю и неохотно возвращаюсь мыслями к своей работе.
Проверяя мою иллюстрацию, Старейшина Чэнь совершенно неподвижен, его лицо непроницаемо. Пока Чжан Цзин изображала вчерашние мрачные новости, мне было поручено нарисовать недавнюю поставку продуктов, среди которых оказалась удивительная редкость – редиска. Наконец он опускает сцепленные перед собой руки. «Ты передала дефекты кожицы редисок, – говорит он мне знаками. – Почти никто не заметил бы такой детали».