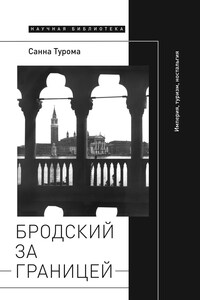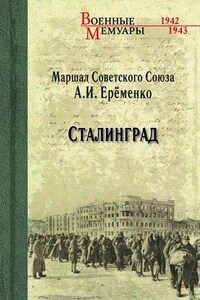В НЕПАЛЕ ЕСТЬ СТОЛИЦА КАТМАНДУ
Когда в начале 2000-х годов Санна Турома, в то время докторант Колумбийского университета, начинала работу над диссертацией о Бродском, уже по ранним вариантам ее глав было очевидно, что это будет интересное и оригинальное исследование. Тем не менее сам выбор предмета, признаюсь, не вызывал у меня энтузиазма: еще одна работа о Бродском, пусть и превосходная? Дело было в то время, когда рост валового объема (по словам Бродского) этой отрасли литературно-критического хозяйства грозил ей кризисом перепроизводства. Ее суммарным продуктом, говоря обобщенно, стал неоромантический образ поэта – вечного изгнанника, у которого в современном мире нет ни клочка земли под ногами и который в своих бесконечных скитаниях по свету повсюду находит только руины давно погибшего (а может быть, никогда и не бывшего) мира, чьим последним духовным гражданином он себя ощущает и распадающиеся обрывки памяти о котором тщетно пытается удержать. В переводе в менее возвышенную плоскость этот нерукотворный памятник поэту послушно следовал канве той биографии, которую ему «сделали», как сказала Ахматова, советские духовно-полицейские власти, сначала устроив прогремевший на весь мир процесс о его тунеядстве, а затем лишив его гражданства и выслав из страны. Сделаю еще одно признание: я и сам поэзию Бродского воспринимал в этом ключе.
И это несмотря на то, что его поздние стихи требовали все больше усилий, чтобы адаптировать их к этой схеме; а также и на то, что некоторые прозаические эссе Бродского смущали своими воззрениями, в которых узнавался хорошо обустроенный духовный мир советского нонконформистского интеллигента 1960–1970-х годов.
Турома предлагает действенное средство против этого недуга ностальгического мифотворчества. Делает она это с удивительной смелостью, спокойствием, а главное, точностью. С первых же страниц книга предлагает нам задаться простым, в сущности, вопросом: не является ли поза антагонистической непринадлежности, типичная для высокого модернизма, анахронистичной в наш неромантический постмодернистский век, сумевший трезво разглядеть в ней черты наивного эгоцентризма? И не мешает ли элегический образ поэта, опоздавшего на символистско-акмеистический прадник начала минувшего столетия, понять его в качестве художника нового времени – времени после модерна, времени, которому элегическое отношение к миру модернизма вовсе не свойственно? Поставить вопросы такого масштаба – значит уже проложить путь к тому, чтобы на них ответить. Автор этой книги предлагает радикальное переосмысление характера поэтического субъекта Бродского, которое, отнюдь не покидая категории его поэтического мира, позволяет посмотреть на них в новой, и притом отчетливо современной перспективе.
Одной из определяющих черт поэзии Бродского является ее философская направленность. Пространство и время, эти ультимативные категории бытия, заявляют о себе в его стихах постоянно и в бесчисленных репрезентациях. В сложившемся образе поэзии Бродского, о котором я говорил выше, его субъект оказывается начисто лишен пространства – нет ни пяди, на которую он мог бы и хотел бы опереться, – но зато всецело поглощен движением времени, делающим всякую телесность «всегда уже» преходящей. Турома обратила внимание на то, что представляется очевидным, но лишь после того, как она на это указала, а именно на огромный вес пространства в поэтическом мире Бродского.
Время больше пространства. Пространство – вещь,
Время же, в сущности, мысль о вещи.
Эти слова, «пропетые» Треской, легко прочитать как знак предпочтения мыслительного мира материальному. Но ведь сама Треска озабочена именно кардинальной сменой пространства, совершенной ее отдаленными предками, – из океана на берег, название которого как будто призвано увековечить память об этом событии; равно как и лирический герой стихотворения озабочен только что совершенной им столь же всеобъемлющей переменой одной пространственной стихии – одной империи – на другую. Обоих мучает «духота» – состояние, в котором воздух заставляет вспомнить о своей материальности, – как плата за этот шаг; оба стоически принимают ее неизбежность. Ощущение вещной тяжести пространства пронизывает мир поэтических образов Бродского. Он вбирает в себя всю пестроту современного глобального мира, чтобы обнаружить в нем непреложное свойство всякой вещи – покрываться пылью.