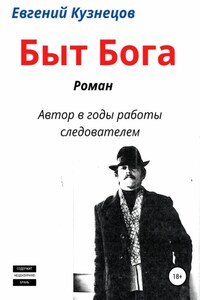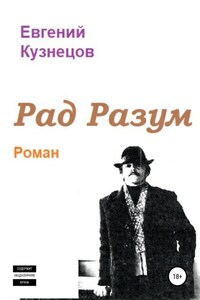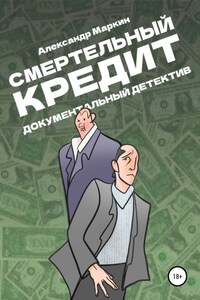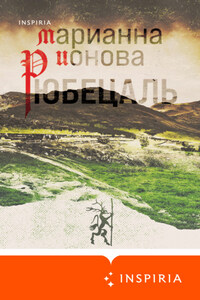Слова – большими буквами, слова себе говорю – словно пишу слова одними заглавными буквами.
…В эти самые "органы" я был заслан.
Наверно, заслан?..
Заслан, конечно!
Работал сегодня да работал, печатал сегодня да печатал… было оно, сегодня, да было…
Особенно вдруг засобытилось во мне: будто Кабинет чуть качнулся, чуть наклонился, и ощутил я крен, явный крен – и по-особенному сразу забредилось вокруг: не просто уж вся "управа", со всеми этажами-коридорами, как была, так и есть Здание и Здание, а – по поводу меня, вся по поводу меня!..
Никого сегодня вроде бы не допрашивал – и не собирался допрашивать, долбил вроде бы обвинительное – только и печатал "обвиниловку"… из Кабинета и не выходил… ни с кем ни о чём не говорил, телефона и не трогал…
И думал-чувствовал я, живой, – всё как живой: пестро, прерывисто и как бы походя.
Дышу-то ровно, только… дышу ли?..
–– Я родился – и сразу же я – я… – повторял привычно, что привычно теперь повторяю.
Виноватость, прежде всего, ощутил в себе, во мне… Будто что-то вдруг узнали про меня, будто про меня что-то узнали, будто про меня узнали что-то…
А сам – прислушиваясь к себе – всё печатал.
И притом будто знают сейчас обо мне затайное моё… Моё!.. Затайное!..
Утром – нет, крена этого не было… Вчера?.. И вчера весь день и вечер не колебалось ничего, не плыло…
Нет-нет! Никто, нет-нет, обо мне ничего не знает, нет-нет, и знать не может!
Печатал, печатаю, ещё много печатать…
И всё со мной, с живым, нормально – и как правдиво, как достоверно я сейчас излагаю! – Мысли и чувства мои прерывисты, мозаичны и – словно бы между прочим.
С утра что: утром проснулся я, открыл форточку, впустил в свою Комнату свежие те, колкие крики ворон… На строгий желудок мой с чаем оделся, пошёл, вышел из "общаги"…
Впрочем… Я иду на работу, я иду с работы… Но ведь это неправда! – Просто ноги сами выступают. Я же сам – где ещё и как!..
Да… Разве что. А тут – старуха…
С утра, с утра на меня посягают.
Старушка вывела развонять свою собачку – а поглядела-то на меня!..
Тревога жизни, тревога жизни…
О, я и сам-то боюсь всё знать о себе, обо мне, – затайное-то, закрайнее…
Потом что – улица, "управа", лестница, коридор, Кабинет…
И вот теперь чую: и ещё как-то собираются на меня посягнуть…
И ранимо ощупывал себя, меня, ранимого, изнутри.
Кишат вокруг, все кишат…
Маня?..
Потом что: видел, как Маня – там, где он был: словно за стеклом непроницаемым по черте сдвинутых столов, моего стола и его стола, – курил, допрашивал… А когда отпустил он "человека", нацелился на меня виском:
–– Ну, и… И, ну…
–– Не я.
–– А чего?
–– Песню пою.
Это я ему про моё живое поведение меня, живого.
Ведь я, который я, чаще – обо всём одновременно, то и другое перемежая и ничем не сковываясь.
Он, Маня, в ответ долго был там, где он был Маней – худым, узким, бледным, как, стало быть, и до этого был таким – там, где он был таким, – лет тридцать.
И он, я видел, через два стола виртуозно посмотрел на меня, спросил, ничего не спрося:
–– Какую же?
Нет ничего, подумал я походя, странного – есть всё стороннее.
Кишат, кишат…
Стыдился – я всегда даже стыдился бумагу-то покупать эту… туалетную…
А теперь – а сейчас так-то событится во мне, и так бредится всё вокруг, словно… Ну, словно прочитали тут, на всё Здание, письмо, что ли, моё любовное раннеюношеское… или словно мне в чём-то гигиеническом своём, в моём, предстоит признаться!..
Ругают меня когда, – защитно думалось – так я будто в доме сразу в каком-то, который – мой, а вот снаружи его слышны шаги, которые мимо, мимо…
И – что?.. А так и буду печатать не шевелясь.
Хвалят же когда меня – много хуже… Мне тогда так, будто в дом в мой тот пришли чужие и говорят – словно их об этом спрашивают! – мол, хорошо… что я вообще есть!..