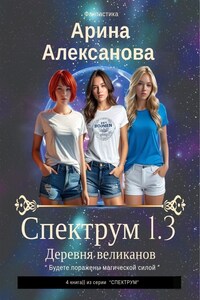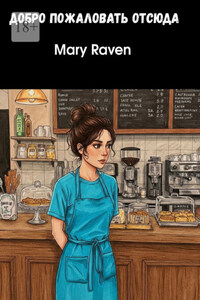Грузовик надсадно ревет, перебираясь через очередной снежный занос. Впрочем, назвать снегом это темное нечто, скрипящее под колесами моего "ЗИЛа" – значит сильно приукрасить этот затянувшийся ночной кошмар. Быть может, даже превратить его в сказку… Сумрак вокруг меня кажется живым, обволакивающим мою машину, и даже мощные фары не способны заставить его отступить. А ведь по часам чуть больше полудня…. Мне не привыкать – вечная ночь давно стала для меня обычным явлением, а вот мой юный спутник, проведший, наверное, большую часть своей жизни в ярко освещенном бункере, со страхом выглядывает из окна.
Никогда не поверю, что он ни разу не выбирался на поверхность. Не поверю, что он не знал, в какой цвет окрасила война когда-то голубое небо. Не поверю и все тут – даже в подземные "муравейники" доходят вести о том, каково живется здесь, на поверхности.
Но, Боже мой, до чего он испуган.
– Парень, – окликаю его я, чтобы хоть как-то развеять молчание, – Сколько тебе лет?
Кажется, он даже не сразу понимает вопрос – на его лице смесь страха и любопытства, однако, первого все же больше.
– Что вы спросили? – говорит, он, наконец.
– Сколько тебе лет? – повторяю я свой вопрос.
– Двадцать. – немного подумав говорит он. Гадает, зачем я спрашиваю его, или и в самом деле с трудом вспоминает, сколько зим прошло с его рождения. Календарных зим, разумеется. Этой черной зиме не видно конца и края.
– И ты умеешь делать бомбы?
– Умею. – с гордостью говорит он, и лицо его светлеет. – Я был лучшим в классе.
– Ты знаешь, что тебя ждет? – неподходящая тема для невинного разговора, но я не могу не спросить. В самом деле, интересно, осознают ли оружейники, с чем им предстоит столкнуться? Понимают ли, что вся их оставшаяся жизнь пройдет близ ядерных бомб и, как следствие, при повышенном радиационном фоне. Отдают ли себе отчет в том, что сотворит с ними радиация?
– Догадываюсь. – говорит он, мрачнея, но тут же вновь улыбается. – А вдруг я окажусь бегуном, как и вы?
Мне хочется рассмеяться от его нелепой надежды, но смех, почему-то застревает в горле. Грех смеяться над больными людьми.
– Нас мало. – говорю я. – Очень мало. Я сама знаю в городе лишь четверых бегунов.
– А в других городах? – спрашивает он.
– Не знаю. Не была. Иногда мне кажется, что мы – последний город в этом мире.
– Я так не думаю. – говорит он, одной этой фразой тут же выдавая себя как "подземного" интеллигента. – Должны же быть и другие. Ведь кто-то же продолжает воевать.
– Я знаю только одно. – решительно говорю я, – Американцы продолжают нас бомбить, а мы продолжаем бомбить их. Все! На этом мои знания о мире обрываются, да и твои, мне кажется, тоже. Связи нет – кругом магнитные поля. Отправиться в другой город могли бы, пожалуй, лишь безумцы, да бегуны, среди которых, между прочим, безумцев нет. Поэтому мы и сидим здесь, продолжая отстреливаться в меру своих сил и отбивать их ракетные атаки. Для нас другого мира нет! Кстати, если бы тыл бегуном, то уже ощутил бы это. Здесь, в машине, радиационный фон уже гораздо выше, чем под землей.
Он умолкает, и я понимаю, что сболтнула лишнего. Зря. Парень неглупый – по морде его вижу, и может далеко пойти. Кто знает, быть может, именно он изобретет что-то, что поможет пробить их противоракетную оборону. Быть может, именно он положит конец войне…
Перемахнув через очередной снежный холм, скрывающий под собой развалины какого-то здания, я признаюсь себе, что в окончание войны я верю даже меньше, чем в том, что однажды мы установим связь с другим городом, так же продолжающим воевать.
Небо над нами, вдруг словно раскалывается пополам от сильного грохота, заставив моего спутника вздрогнуть и покрепче вцепиться потными руками в дверную ручку.