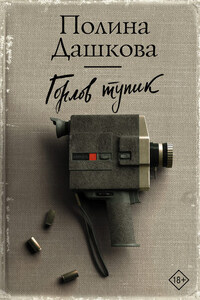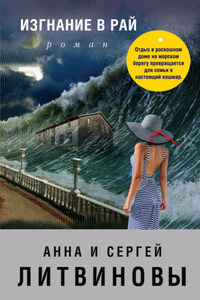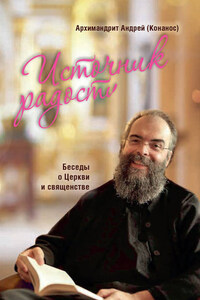– Посиди здесь и подумай о своем поведении.
Дверь закрылась, снаружи повернулся ключ. Маша Григорьева осталась одна в просторной комнате, где не было ничего, кроме фанерных щитов наглядной агитации, прислоненных к стене, пыльных рулонов бумаги, сваленных в угол, голой ослепительной лампочки под потолком, сизого ночного окна с клочьями ваты между рамами и чугунной батареи.
– Вот и отлично! – прошептала Маша, обращаясь к запертой двери, за которой слышны были тяжелые шаги и скрип половиц. – Я простужусь, у меня будет воспаление легких, и тебе, Франкенштейн, придется отвечать.
Шаги затихли. Маша потрогала облупленное ребро батареи. Оно оказалось чуть теплым.
Пять минут назад Франкенштейн выдернула ее из-под одеяла, отняла фонарик, книжку и даже не дала надеть тапочки, потащила за руку вон из спальни по пустому полутемному коридору, потом по лестнице, на третий этаж. Маша ужасно удивилась. Такие воспитательные меры были для нее экзотикой. Она решила не возражать и не задавать вопросов, ей стало интересно, куда ее тащат и что произойдет дальше.
За три дня, проведенные в санаторно-лесной школе, она узнала несколько непреложных правил. Самый важный человек в этом заведении – воспитательница старших классов Раиса Федоровна Штейн, по прозвищу Франкенштейн. Есть вещи, которые ее бесят: декоративная косметика, жвачка и чтение после отбоя под одеялом при свете фонарика.
Вчера утром, обыскивая тумбочки в спальне девочек, Франкенштейн обнаружила у Маши помаду, правда гигиеническую, но она не вникала в детали. В специальной тетрадке против фамилии «Григорьева» появилась жирная красная точка. После обеда соседка по столу угостила Машу мятной жвачкой. Франкенштейн шла навстречу как раз в тот момент, когда Маша запихивала в рот белую гибкую пластинку. Тут же появилась вторая точка, жирнее первой.
– Ну все, Григорьева, – предупредила соседка, – еще одно замечание, и ты труп.
– Она что, правда детей жрет? – небрежно уточнила Маша.
– Не всех. Только девочек старших классов, и то после третьего замечания.
В десять вечера Франкенштейн погасила свет в палате. В десять сорок зашла проверить, все ли спят. Маша дождалась одиннадцати, зажгла под одеялом свой фонарик, чтобы почитать. Она читала Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» и так увлеклась, что не услышала тяжелых шагов.
Вот, оказывается, как обращаются с детьми в этом оздоровительном заведении, если, конечно, можно назвать ребенком совершенно самостоятельную девочку тринадцати лет, умницу, отличницу, которая свободно говорит по-английски, читает в подлиннике Уайльда, Моэма и Голсуорси. Никто никогда не хватал ее за руку и не волок, как нагадившую собачонку. Никто никогда не запирал ее ночью в холодной комнате, босую, в ночной рубашке.
Неделю назад мама и отчим Маши Григорьевой попали в аварию, вроде бы не слишком серьезную, тем не менее оба лежали в больнице, к ним не пускали из-за карантина. Бабушка Зина решила быстренько сбагрить Машу в эту паршивую лесную школу.
С первого же дня Маша стала обдумывать план побега. Ей хотелось увидеть маму. Она не знала, где именно мама лежит, но надеялась выяснить это, обзвонив из дома по телефонному справочнику все московские больницы.
Она понимала, что отсюда, из деревни Язвищи, добраться до Москвы без посторонней помощи довольно сложно. Не в том дело, что далеко (двадцать минут на автобусе, тридцать минут на электричке). Просто у Маши не было денег. Ни копейки. В лесной школе не разрешалось детям иметь наличные деньги, и верхнюю одежду держали в запертом помещении, выдавали только на время прогулок. А на прогулке всегда рядом Франкенштейн. Попробуй сбеги. Это закрытое заведение, черт бы его подрал, детское оздоровительное учреждение санаторного типа. Бабушка Зина страшно гордилась, что устроила сюда Машу, совершенно здорового подростка, по большому блату. И если Маша сбежит, бабушка ей этого никогда не простит.