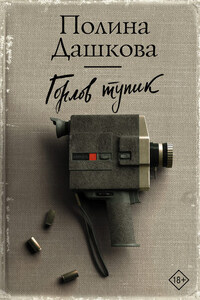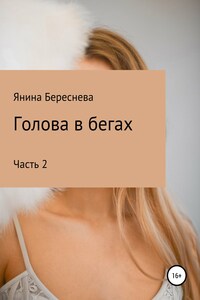Она являлась к нему ночами много лет подряд.
Он просыпался от шороха своих пересохших губ, от хриплого шепота: «Уходи, уходи!»
За два с лишним десятилетия ее ночные визиты слились, перепутались. Но самый первый он помнил отчетливо.
Тот год оказался худшим в его жизни. Он потерял все: офицерское звание, власть, престиж, высокую зарплату, паек. Из отдельной казенной квартиры пришлось вернуться к матери в коммуналку. Он еще легко отделался, его сослуживцам повезло меньше. Одних посадили, других расстреляли. Он уцелел, остался на свободе и сдаваться не собирался. Ему было двадцать восемь. Он сорок раз отжимался от пола и подтягивался на турнике, пробегал в максимальном темпе десять километров, без одышки, сердцебиения и мышечной слабости. У него были отличная память, острое чутье, быстрые реакции. Он знал, чего хочет, и умел хранить это в тайне.
Однажды ночью она возникла между ширмой и раскладушкой, на которой он спал. Не разобравшись спросонья, в чем дело, он спросил:
– Ты?
Она не ответила. Он задал следующий вопрос:
– Что тебе нужно?
Опять молчание.
Тот первый ее визит не сильно испугал его, сразу нашлось объяснение: усталость, нервы. Мать проснулась от скрипа раскладушки, села на кровати, проворчала:
– Что ты вертишься?
– Плохой сон приснился, – объяснил он шепотом.
Она исчезла на рассвете, и к полудню он забыл о ней. Но через неделю все повторилось. Потом опять и опять.
Он накрывался с головой одеялом, зарывался лицом в подушку и все равно ясно видел ее. Она стояла босая, в спущенных чулках, и смотрела на него круглыми сизыми глазами. Мокрое платье липло к телу, с волос текли извилистые ручейки. Рядом валялась пуховая шаль, поблескивал один аккуратный круглоносый бот с пуговками на небольшом каблуке.
Он вставал, стараясь не шуметь, не разбудить мать, отправлялся бродить по длинному коммунальному коридору. Движение успокаивало, но она то и дело вставала на пути.
Он беззвучно напевал бодрые песни, прокручивал в голове хорошие фильмы: «Волга-Волга», «Подвиг разведчика», «Падение Берлина», вспоминал любимые праздники, разукрашенную флагами и портретами Красную площадь. Ее силуэт терялся в толпе, вытеснялся стройными марширующими рядами физкультурников, таял под гусеницами танков, не оставляя следа на брусчатке. Он облегченно вздыхал. Но тут из кухни выскальзывала соседская кошка, шипела, изгибалась дугой. Шерсть вставала дыбом на кошачьем загривке, и он понимал: она никуда не делась, кошка чует ее, видит так же ясно, как он.
Из его горла вылетал беззвучный крик:
– Вали отсюда, вражина, сволочь!
Кошка испуганно убегала, а она по-прежнему стояла неподвижно и смотрела ему в глаза. Он размахивался, бил. Кулак пробивал пустоту.
Москва, январь 1977
* * *
У Никиты резались зубы. Два нижних передних показались месяц назад, а верхние все никак не желали вылезать. Десна распухла, покраснела. Он плакал днем и ночью, успокаивался только на руках. Приходилось носить его по квартире, да еще петь. Лена мерила шагами тридцать четыре необжитых метра на двенадцатом, последнем этаже панельной новостройки, сипло напевала весь известный ей репертуар Окуджавы, Высоцкого, Визбора. Стоило замолчать, остановиться – опять крик.
Это продолжалось бесконечно, с перерывами на кормление, переодевание, купание. О прогулке пока оставалось только мечтать, единственный зимний комбинезон Никита прописал насквозь, после стирки отжать как следует не получилось, комбинезон все не высыхал, а другой теплой одежки не было.
Семь шагов от балконной двери до матраца. Пять от Никитиной кроватки до письменного стола. Еще пять мимо комода, двустворчатого шкафа и новогодней елки.