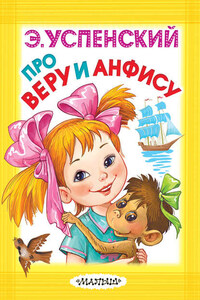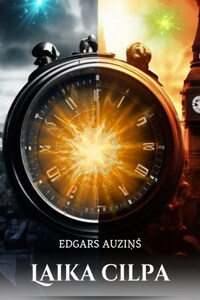В тысяча восемьсот сорок пятом году, в эпоху благоденствия и мира, когда молодая Франция была осыпана всеми дарами ума, таланта, красоты и богатства, в Париже проживала молодая, замечательно красивая и привлекательная особа; где бы она ни появлялась, все, кто видел ее в первый раз и не знал ни имени, ни профессии, обращали на нее почтительное внимание. И действительно: у нее было самое безыскусственное, наивное выражение лица, обманчивые манеры, смелая и вместе с тем скромная походка женщины из самого высшего общества, лицо у нее было серьезное, улыбка значительная, и при виде ее можно было повторить слова Эллевью об одной придворной даме: не то это кокотка, не то герцогиня.
Увы, она не была герцогиней и родилась на самом низу общественной лестницы; нужно было иметь ее красоту и привлекательность, чтобы в восемнадцать лет так легко перешагнуть через первые ступени. Помню, я встретил ее в первый раз в отвратительном фойе одного бульварного театра, плохо освещенного и переполненного шумной публикой, которая обыкновенно относится к мелодраме как к серьезной пьесе. В толпе было больше блузок, чем платьев, больше чепцов, чем шляп с перьями, и больше потрепанных пальто, чем свежих костюмов; болтали обо всем: о драматическом искусстве и о жареном картофеле; о репертуаре театра Жимназ и о сухарях в театре Жимназ; но когда в этой странной обстановке появилась та женщина, казалось, что взглядом своих прекрасных глаз она осветила все эти смешные и ужасные вещи. Она так легко прикасалась ногами к неровному паркету, как будто в дождливый день переходила бульвар; она инстинктивно приподнимала платье, чтобы не коснуться засохшей грязи, вовсе не думая показывать нам свою стройную, красиво обутую ножку в шелковом ажурном чулке. Весь ее туалет гармонировал с ее гибкой и юной фигуркой; прелестный овал слегка бледного лица придавал ему обаяние, которое она распространяла вокруг себя, словно какой-то необыкновенно тонкий аромат.
Она вошла, прошла с высоко поднятой головой через удивленную толпу, и – представьте себе наше удивление, Листа и мое, – фамильярно села на нашу скамейку, хотя ни Лист, ни я не были с ней знакомы; она была умная женщина, со вкусом и здравым смыслом, и первая заговорила с великим артистом; она сказала ему, что слышала его недавно и что он очаровал ее. Он, подобный звучным инструментам, которые отвечают на первое дуновение майского ветерка, слушал со сдержанным вниманием ее слова, полные содержания, звучные, красноречивые и мечтательные по форме. Со свойственным ему поразительным тактом и привычкой вращаться как среди официального мира, так и среди артистического, он задавал себе вопрос, кто эта женщина, такая фамильярная и вместе с тем такая благородная, которая первая с ним заговорила, но после первых же слов обращалась с ним несколько высокомерно, как будто он был ей представлен в Лондоне, при дворе королевы или герцогини Сутерландской?
Однако в зале уже прозвучали три торжественных удара режиссера, и в фойе не осталось никого из публики и критиков. Только незнакомая дама оставалась со своей спутницей и с нами – она подсела даже поближе к огню и поставила свои замерзшие ножки так близко к поленьям, что мы свободно могли рассмотреть ее всю, начиная с вышивки ее юбки и кончая локонами прически; ее рука в перчатке была похожа на картинку, ее носовой платок был искусно обшит королевскими кружевами; в ушах у нее были две жемчужины, которым могла бы позавидовать любая королева. Она так носила все эти вещи, как будто родилась в шелку и бархате, под золоченой кровлей, где-нибудь в великолепном предместье, с короной на голове, с толпой льстецов у ног. Ее манеры гармонировали с разговором, мысль – с улыбкой, туалет – с внешностью, и трудно было бы отыскать на самых верхах общества личность, так гармонировавшую со своими украшениями, костюмами и речами.