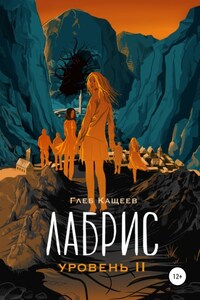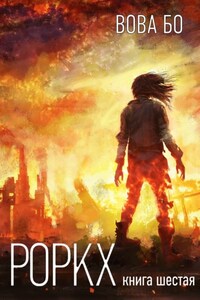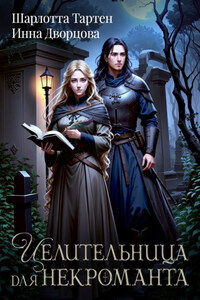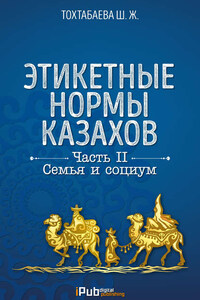До того рокового утра Вика видела мать настолько испуганной всего дважды.
Первый раз произошел так давно, что память местами была окутана туманом и выдавала только короткие отрывки, запомнившиеся большей частью яркими эмоциями, а не смыслом.
Вроде бы это было у врача. В семь лет ее решили отдать в балетную студию. Это была не частная подвальная секция, где ради денег готовы на все, а настоящая балетная школа с именем, хоть и открывшая филиал поближе к элитным поселкам Новой Риги и Рублевки. Прежде чем допустить новенькую к занятиям, тренер строго потребовала справку от врача, что у девочки все в порядке с сердцем.
Вика тогда так ужасно расстроилась и раскапризничалась, что, вместо того чтобы надеть красивые белые колготки и юбку и начать танцевать, ее потащили по всяким кабинетам частной клиники. Всего медосмотра она не помнила. Когда ей больно укололи палец иголкой, чтобы выдавить каплю крови, Вика терпела и даже не заплакала. Все остальные врачи пролетели как-то легко и в памяти совершенно не задержались, а вот тот странный кабинет, где ее облепили щекотными присосками и попросили лежать спокойно, отпечатался намертво.
От присосок было щекотно, и мурашки от них расползались по всему телу так, что Вика периодически хихикала.
Врач сидела рядом, смотрела на бумажную ленту, хмурилась и постоянно журила ее, чтобы Вика не дергалась. Напряжение в голосе врачихи нарастало, и Вика поняла, что, не будь за тонкой дверью мамы, она бы и наругалась даже. Пришлось постараться забыть про мурашки и лежать смирно-смирно и тихо-тихо. Она старалась даже дышать поменьше, но настроение докторши не улучшилось.
Врачиха взяла ленту в руки с очень серьезным и обеспокоенным лицом и вышла к маме. Они о чем-то долго говорили, и через приоткрытую дверь Вика видела, как у мамы медленно исчезает с губ вежливая улыбка, сменяясь очень напряженным выражением.
Но это был еще не страх.
С этого момента Вика помнила уже все очень хорошо, потому что ощущала: что-то пошло не так. Мама долго и нервно звонила по телефону, пытаясь куда-то срочно записаться, а когда это вроде бы удалось, посадила Вику в машину и ехала молча. В зеркальце с заднего сидения Вика видела только ее нервно сжатые губы. Автомобиль неожиданно остановился у высокого незнакомого здания.
«Мы сейчас к еще одному доктору зайдем», – взволнованно сказала мама, помогая ей вылезти из машины.
Это мрачное место совсем не походило на их цветастую клинику на Рублевке. Серые снаружи стены внутри были болезненно-зеленоватыми. Все врачи и медсестры ходили с серьезными лицами, никто не улыбался и даже не пытался сюсюкать, как это обычно случалось в тех местах, где они бывали с мамой. Почувствовав общее напряжение, Вика сидела на банкетке молча и только иногда искоса поглядывала на нервно теребящую край кофты маму.
В новом мрачновато-холодном кабинете Вику еще раз облепили присосками, только на этот раз еще и на голову нацепили смешную шапочку из проводов. Она уже знала, что нужно лежать тихо, как мышка. Маму опять попросили подождать в коридоре.
Терпеть на этот раз пришлось намного дольше. Она очень скучала и хотела, чтобы это все поскорее закончилось, но под конец даже чуть не заснула. Когда Вике наконец разрешили выйти в коридор, то, наоборот, маму позвали в кабинет и очень долго не выпускали. Через пару минут туда же прошли еще два доктора.
Разговор за дверью был очень напряженный, но слов было не разобрать. То ли из-за волнения, то ли действительно так и было, но коридор тогда казался Вике давящим, ужасно душным и темным. Она не знала, как бывает в тюрьмах, но она представляла, что вот примерно так же, как и здесь: человек бесконечно сидит на жесткой лавочке, а вокруг страшно, плохо и тяжело.