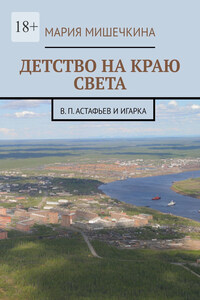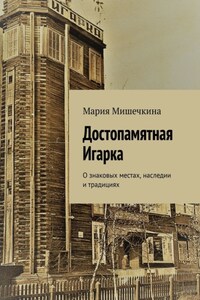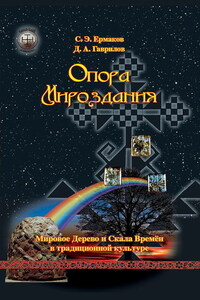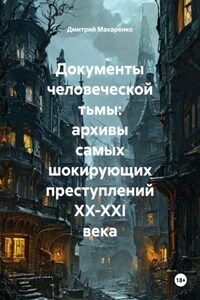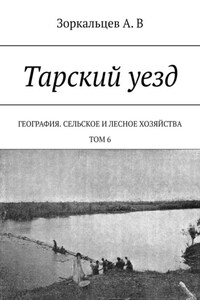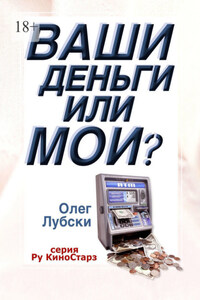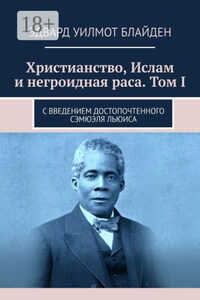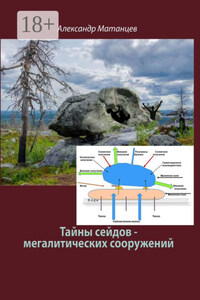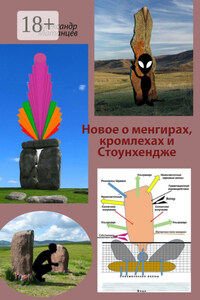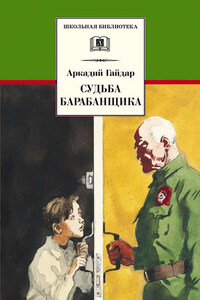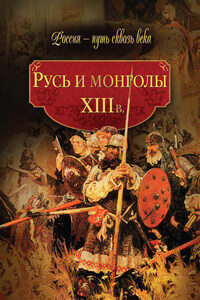«Меня часто спрашивают, как я стал писателем, что повлияло на такой поворот моей судьбы? Я думаю, что здесь три причины. Одна из них – Господь Бог сподобил меня родиться писателем. Вторая – это жизнь, эти драматические события в детстве. Ну, а третья – красота наших мест, которую губят, губят, да погубить никак не могут… Ну, а главное, конечно, драматизм событий, какой-то тяжкий отрезок времени, выпавший на моё детство»
В. П. Астафьев. (Из интервью Н. М. Кавина с В. П. Астафьевым, 1995 г.)
В Игарской библиотеке. 1999 г.
Мое знакомство с творчеством Астафьева началось задолго до личных встреч с писателем. И это неудивительно. В программе изучения отечественной литературы факультета журналистики Ленинградского государственного университета были немногие произведения В. П. Астафьева: «Стародуб», «Перевал», «Кража», «Звездопад». Упор делали на «Последний поклон». И, кстати, именно эта повесть дала повод для того, чтобы писателя стали причислять к представителям деревенской прозы.
В 1979 году сразу после завершения учебы в университете мы с мужем уехали по распределению в Красноярский край в город Игарку. Постепенно шаг за шагом началось знакомство не только с заполярным городом, но и необычайно насыщенной историей, судьбами людей, среди которых немало было личностей поистине талантливых.
Работая журналистом на местной телестудии в 80-е годы, а после её закрытия – в городской радиоредакции, я стала узнавать ближе Виктора Петровича. Сначала это были общие встречи. Проходили они, как правило, в годы юбилеев города, которые всегда совпадали с личными. Город был построен в 1929 году, а Виктор Петрович родился на 5 лет раньше. Вот эта разница в 5 лет всегда предопределяла особое праздничное настроение и родственное отношение к любимому городу, куда он всегда приезжал в год юбилеев в последние 20 лет своей жизни.
С 1992 года я работала в Игарском краеведческом комплексе «Музей вечной мерзлоты», встречи с Астафьевым стали частью не только моей деятельности, но и жизни. Нужно было собрать музейную коллекцию, связанную с пребыванием Виктора Астафьева в заполярной Игарке и с тем, как это отразилось на его творчестве. Оформить экспозицию, оказалось, не так-то просто. За писателем «деревенского» направления скрывался настолько сложный мыслитель-гуманист, что ограничиваться просто встречами и перепиской было невозможно. Постижение астафьевского слова, прозы было при этом крайне необходимо. Без этого не понять тёплого, отеческого отношения писателя к умирающему городу, в котором его не баловали теплом человеческого внимания. Одна из глав «Неизвестное об известной повести» посвящена «Краже» – именно это произведение всегда было для меня самым важным в понимании восприятия беспризорного Астафьева детства в северном городе.
Игарский период в жизни писателя очень значим. Осмысление этого пришло со временем. Очень знаковой я считаю фразу Виктора Петровича в интервью журналистке Т. Ф. Голдиной «Жить достойно» (газета «Коммунист Заполярья», 1989 г., №90). Он искренне отвечает на её вопрос о том, какое впечатление производит на него Игарка спустя последние 10 лет: «Вы знаете, это всё-таки город детства. Это как в семье русской. Ведь там, чем беднее, обиженнее дитя, тем оно милее материнскому сердцу, да наверное, отцовскому тоже. Игарка состарившаяся, она вызывает во мне чувство внутреннего страдания, горя какого-то, а в целом вызывает чувство умиления, хотя многое здесь изменилось». Виктор Петрович любил своё детство, родных да и город, одновременно гремевший как форпост социализма на Крайнем Севере и приют для многих ссыльных, а в конце ХХ века брошенный на произвол судьбы вместе со всеми оставшимися там людьми. Мы были свидетелями того, как бился наш Астафьев за чистоту Енисея, сохранение морского порта в Игарке и организацию переселения игарчан на материк. При встрече с президентом России Б. Н. Ельциным первое, о чём просил писатель – это выделение средств на переселение игарских пенсионеров на «материк».