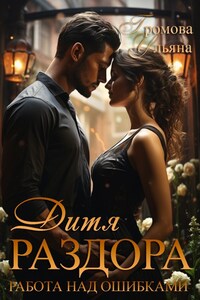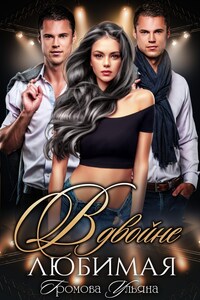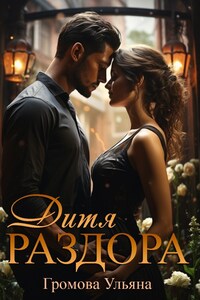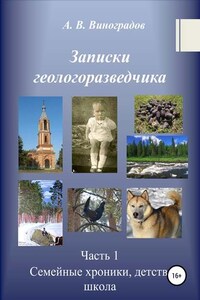Ты
сам выбираешь, о чём думать и что чувствовать.
Катя
Я лежала поверх застеленной кровати и смотрела в потолок. По
нему проходила трещина. Похожая на молнию, замазанная, закрашенная, но…
отчетливо видимая именно из-за этих маскирующих ее слоев. Я металась взглядом с
одной ее стороны на другую и большими буквами выводила мысленные слова: ДО и
ПОСЛЕ.
Сегодня меня выписывают. Я тут несколько дней, а кажется,
только вчера на обходе мой врач — Лев Константинович, хоть и пенсионер, но все
еще работающий — по-отечески утешал меня, когда лично пришел сообщить, что мой
ребенок не выжил.
Я будто оглохла после этой новости. Никак не могла понять, как
это возможно. Ведь ничего не предвещало. Мне даже тельце моего малыша не
показали — Лев Константинович увещевал, что тогда мне будет еще тяжелее
пережить потерю, что ненужно видеть мертвого сына, потому что смерть не бывает
красивой, а у меня могут возникнуть страхи и комплексы.
Наверное, он прав. Но я лежала, ждала выписку и справку о
смерти сына и не хотела уходить из роддома. Здесь была территория, где мне не
нужно смотреть в глаза Артему. Где я могла ничего не делать, потому что ничего
не хотелось.
Я не знала, как правильно переживать эту потерю. Мне
казалось, я плохая мать и мало скорблю. Но… я уснула на операционном столе
врача с животом, проснулась без него. Со швом-трещиной на коже и жизни, зашитым
и замазанным, но под всеми слоями отчетливо различимым. И… всё. Как будто эта
беременность была сном. Как будто я ее придумала, чтобы увести чужого мужа, и
вот высшие силы меня разоблачили, а ребенка отняли.
Может, я тронулась умом?
И Артема тоже придумала?
Потому что он ни разу не пришел за все дни, что я лежала в
роддоме и подыхала от непонимания, как жить дальше. Он ни разу не позвонил. Но
наверняка знал, что наш сын, насильно
родившийся на два месяца раньше, не справился. Он был не готов, а его…
Я села на кровати от непонятного смятения, какой-то догадки.
— Старкова, — бесцеремонно перебила вдруг возникшую важную
мысль медсестра, открыв дверь в палату, — выписка готова. Можете спускаться за
вещами в подвальное хранилище и идти домой.
Я неожиданно разозлилась на Валентину. Она всегда открывала
дверь с ноги и вообще не слишком вежлива и деликатна. А сейчас она спугнула
какую-то очень серьезную и важную мысль, на которую во мне что-то откликнулось.
Что? Решимость? Потребность? Нет, не то…
Я прислушивалась к себе, пыталась отмотать назад то, о чем
думала, но мысль умчалась безвозвратно. Я с досады чертыхнулась и зыркнула на
медсестру, застрявшую в двери конвоем — ей будто не терпелось выставить меня
поскорее. В ее репертуаре. Весьма неприятная девица. Мне даже забирать, кроме
документов, было нечего — паспорт и обменку я, как советовал врач, всегда
носила с собой. Кто бы знал, что ее слова о «мало ли что» воплотятся в жизнь
так буквально…
Через полчаса блужданий по подвальным переходам по следам
указателей я нашла хранилище, оделась в свое беременное платье и прочую теперь
неподходящую одежду и вышла на улицу. Поежилась. Не от холода — день был
невыносимо солнечный и теплый, даже деревья еще не стояли голыми — все же
климат у нас ближе к южному и зимы дождливые.
Меня морозило от опустошения и какого-то глобального,
вселенского одиночества.
Это не было метафорой, это была данность.
Я могла вызвать такси, чтобы уехать домой. Но мне было
страшно возвращаться, казалось, там поджидает вся бездна отчаяния, вся не выстраданная
боль потери и чувство безысходности.
Я подошла к автобусной остановке, но пропустила три круга всех
маршрутов. В итоге ушла с остановки и побрела сама не знала куда — все дороги
вели в личный ад.