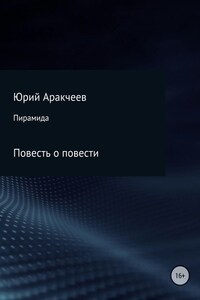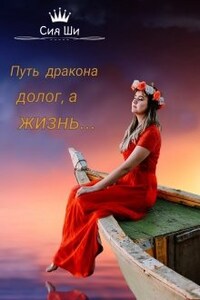I
Как привычно здесь, в ненавистной грязи, как покойно в лоне языка народа моего, как уютно у ног твоих, мама, у ног, пахнущих полынью и землей. Я возвращаюсь к тому, что знаю хорошо-хорошо, знаю вопреки стремлению своей души, к постылым своим корням, из которых рос, от которых отталкивался всю жизнь…
– А помнишь ту руину на Маркса, сразу с моста – налево?
– Сталинскую пятиэтажку-переростка, со шпилем рогатым, облезлую…
– Да-да, облезлую до кирпича, в струпьях штукатурки…
– И с карнизом над цоколем, узким и кривым, если смотреть сверху, кривым, как…
– И таким пыльным! Ведь его никто никогда не чистил – да и мыслимо ли это! – а дом в самом центре, и движение там…
– И ветер с берега!
– Да! И ветер! Поэтому карниз… был просто черным…
– И весь в валиках пыли…
– Да, пыли! Такой липкой и рыхлой…
– И со всякими интересными непонятными штучками в ней…
– И таинственными обрывками бумажек с расплывшимися письменами…
– И окурками, сухими, как куриные косточки…
– А на стеклах подъездных окон снаружи можно было писать…
– А почтовые ящики внутри были похожи на маленькие гробики для кошек…
– А кошки обходили по этому карнизу весь дом и, возвращаясь к месту исхода, ловко впрыгивали в распахнутые окна…
– А с торца – помнишь? – облезлая лестница, повисшая на одной руке, у самой земли…
– Да-да, на одной руке, пожарная… Но с земли до нее было не допрыгнуть, зато можно было смотреть на тусклый шпиль: в гулких летних сумерках и особенно в холодных сумерках осени казалось, что облака кружатся вокруг шпиля, разматываясь перьями…
– А когда темнело, в лужах красный свет светофоров отражался далеко-далеко, до Маяковского и до Жукова, и…
– Да, до Маяковского и до Жукова…
И казалось – с той стороны – что так будет вечно, а с этой – кажется, что вечность – это то, куда невозможно вернуться.
Огоньки на приборной панели дрожат, сияя по левую руку, как угольки, подпрыгивают на ухабах вверх и, описав дугу, проваливаются вниз. И возвращаются на место. Машина летит вперед, я тоже смотрю вперед, по сторонам. И подают мне из ночи стволы берез и особняки с заборами, и обносят ими, а мне – не жаль, мне все равно, что так. Я снова думаю и вспоминаю.
«+7 999…..
Даже если мы не будем вместе, у меня все равно будет от тебя ребенок»
Только тонкие стекла с нежными вертикальными царапинами отделяют меня от ночи, льнущей справа и слева, как вода. Не дают смешаться, развеяться, раствориться. И я с усилием жмурюсь, словно вгоняю в себя ускользающую волю и затворяю дыры, через которые она может улетучиться, если ночь посмотрит мне прямо в глаза; я сжимаю губы, помогая сохраниться привычному порядку вещей. Все в мире связано, нет в нем ни одного лишнего движения. Жмурясь и цепенея, можно сохранять баланс сил.
Внутри себя.
Хватит уже распыляться, хватит! Не только истекающее семя лишает сил, но даже мысль, помышленная вовне, укорачивает дорогу жизни с того конца, что еще не виден. Нужно сжаться, нужно остановить мысль и, повернув глаза к сердцу, смотреть только в себя. Ничего никому не отдавать сверх того, что уходит само. Мне страшно. Мне хочется жить вовнутрь. Я съеживаюсь, вжимаясь в кресло, и стискиваю ключи в ладони, чувствуя, как гряда зубцов оставляет оттиск на влажной коже. Я отвращаю слух от бормотания водителя и вглядываюсь туда, где красный отблеск: это встречный свет пронизывает веки, это кровь омывает глазные яблоки. Красный. Запрет. На холодных гребнях тают отсветы, до Маяковского и до Жукова. Стоять. Там где только сны и чьи-то голоса. Куда не вернуться. И я ничего никому не отдам, ничего, разве только то, что само найдет себе дорогу через поры, в микроскоп похожие на воронки с длинными извилистыми горловинами. Сил у меня нет, чтобы брать от мира сего, мне хочется плакать, и часто слезы текут сами.