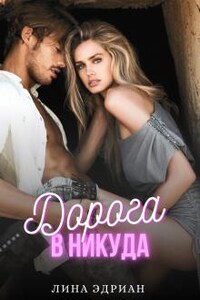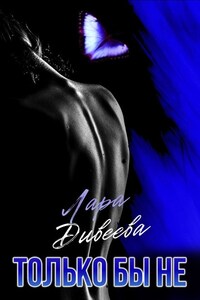Я словно в тумане. Прострации. В
аду.
Без нее. Навсегда.
Эта мысль не прижимается.
Отторгается, будто инородная. Я все еще верю, что вот, сейчас, я
очнусь, проснусь, а передо мной она — настоящая, живая. Все также
злит меня, выводит из себя, сводит с ума. Я чувствую ее запах,
тепло. Сжимаю крепко ее тонкое тело в своих руках, целую в шею,
кусаю мочку уха. Она дрожит, сдавленно стонет, поддается на
встречу. Реагирует на меня. Всегда. Сладко, горько,
по-особенному.
Перед глазами пелена, в ушах
непонятный шум. Меня будто оглушило, словно разорвало где-то рядом,
поблизости, гранату. Я не дышу, не могу сделать даже вдох.
Неужели когда-нибудь я научусь вновь
дышать, не чувствуя разрывающую боль в груди? Неужели я
когда-нибудь смогу спокойно ходить по этой планете, зная, что ее
нет?
Это ощущение — оно совсем другое.
Сложное, атакующее, ослепляющее. Знать, что она где-то там далеко,
злиться на нее, ненавидеть — как оказалось, легко. Понимать, что ее
просто больше нет — это совсем по-другому. Словно кто-то вырвал
сердце из груди без анестезии.
— Тимур, поешь, пожалуйста.
Тимур!
Голос не сразу доходит до сознания.
Я морщусь, хмурюсь, моргаю, пытаясь сфокусироваться.
— Тимур, я прошу тебя…
Рыжие волосы, встревоженные глаза
прямо перед моими. Опять она…
— Уходи…
— Не уйду! — упрямо, твердо.
Хочу сказать, что тогда я сам уйду,
но у меня нет сил дышать, не то, чтобы встать.
Она приходит часто. Может быть,
каждый день. Я плохо ориентируюсь в днях последнее время. Мне
наплевать — прошла неделя, месяц, год, какая разница.
— Тимур, — настойчивый голос опять
возвращает в реальность.
Она буквально кормит меня с ложечки.
И я отпихиваю ее руку. Тарелка падает, разбивается. Она не злится,
не кричит. Убирает все, уходит куда-то, а скоро вновь приходит с
очередной тарелкой. Упрямая.
— Тимур! — голос ее уставший,
звенящий.
— Уходи, — рычу в ответ.
Я ведь не прошу ее помощи. Ничего не
прошу. Лишь оставить меня в покое.
— Пожалуйста, Тимур. Ты ведь
сильный. Ты должен быть сильным. Ради Милы.
Имя дочери хоть немного проясняет
голову. Я фокусирую взгляд и даже терпеливо проглатываю несколько
ложек горячего супа.
Как бы объяснить ей, что, кажется,
мир перестал вращаться? Мой личный мир так точно перестал. Я замер,
завис в каком-то ужасающем дне сурка. Я не хочу думать,
осмысливать. От этого тошно, плохо.
Но Кэт упрямо зовет и уговаривает.
Затаскивает в душ. Я почти как безвольная марионетка. Засовывает
меня под холодную воду. Обижающие ледяные капли бьют по голове,
лицу, плечам. А я словно ничего не чувствую. Мне будто что-то
ядреное вкололи — тело как замороженное, сознание
заторможенное.
Такое состояние длится долго. Месяц,
два. Я словно сам не свой, неживой все это время.
Большую часть времени я как тень, но
иногда во мне просыпается нечеловеческая ярость. В такие моменты я
ломаю, крушу все, что подворачивается под руку. Мой дом напоминает
свалку.
А она рядом. Практически каждый
чертов день этого ада. Приезжает, уезжает, кормит, пытается
разговаривать. Я рычу, скалюсь, посылаю. А она не уходит. Хочет
меня спасти от самого себя. Глупая. Нечего, некого спасать. Она не
понимает.
Внутри пепелище, черная бездна,
воронка. Я просто хочу заснуть и больше никогда не проснуться.
Иногда я думаю о том, что даже не
подозревал, что Саша во мне так глубоко и сильно. Я, будем честны,
продолжал лелеять в себе глупую злость на нее. За то, что она жизнь
мою раскурочила, меня самого наизнанку вывернула, потопталась
острыми каблуками по мне и даже не чувствовала своей вины. Я шаг
навстречу, а она еще и вредничает, отталкивает.
А я отпускать не хотел. Не мог.
Затолкал злость глубоко куда-то и терпеливо ждал, пока она сама
оттает. Хотел, чтобы ее пробрало, на мне заклинило. Чувствовать,
ощущать, что она с ума по мне сходит.