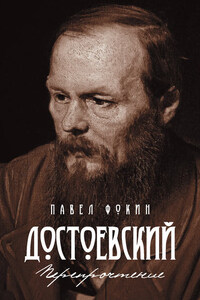Один из героев романа Джеймса Болдуина «Другая страна», литератор Ричард Силенски, говорит молодому коллеге, предлагая ознакомиться с рукописью своего романа: «Просто читай и на время забудь о Достоевском и прочих высоких материях. Это всего лишь книга, правда, весьма неплохая»[1]. В этих словах, иронически обращенных против самого героя, Болдуин выдал тайну, некий эдипов комплекс всей мировой литературы после Достоевского.
А может быть, и всей человеческой культуры.
Но уж литературы-то – точно!
Мимо Достоевского в XX веке не прошел никто.
Книги его читали по-всякому. С благоговейным трепетом и с дрожью отвращения, как реалиста и как мистика, сквозь призму академической науки и с помощью языков других видов искусств.
Его осмысляли, его исследовали, его интерпретировали.
С ним «вступали в диалог», спорили.
Его «развенчивали» и опровергали.
Некоторые даже демонстративно не читали, чтобы не тратить время «попусту».
Достоевского цитировали, прямо и опосредованно, его брали в союзники и защитники, его использовали как оружие, порой ему прямо подражали и просто пародировали. Художественный мир Достоевского, при всей его специфичности и фантастичности, оказался настолько универсален, что практически каждый читатель находил в нем свое место. Более того, вся окружающая действительность укладывалась в систему его координат (вне зависимости от политических, экономических и даже – в Японии, например, – религиозных устоев общества, к которому принадлежал читатель).
Мир после Достоевского стал восприниматься как мир Достоевского.
Люди стали персонажами.
Раскольниковы, Свидригайловы, Мармеладовы, Рогожины, Настасьи Филипповны, Епанчины, Ставрогины, Верховенские, Шатовы, Кирилловы, Иваны, Мити, Алеши Карамазовы, Смердяковы, Грушеньки, Ракитины, Версиловы, Смешные и Парадоксалисты сотнями, тысячами, сотнями тысяч объявились по всем странам и континентам.
Десятками проросли Великие инквизиторы и старцы Зосимы.
Были и Мышкины. Единично, но были.
В XX веке Достоевский стал своеобразной твердой валютой духовности, которая была безоговорочно принята в обращение и свободно конвертируется во всех странах мира, относительно которой устанавливаются курсы всех других интеллектуальных и этических систем и формул.
Писать после Достоевского стало невероятно трудно, если не сказать больше – невозможно.
Единственный шанс – не знать о нем, не замечать, «на время забыть».
И тогда, действительно, возможно писательство.
И даже – Литература.
Нет никакого сомнения, что великие книги XX века, такие как «Иосиф и его братья» Т. Манна, эпопея М. Пруста, «Улисс» Дж. Джойса, «Процесс» и «Замок» Ф. Кафки, «Котлован» А. Платонова, «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкиена, «Ада» В. Набокова, «Сто лет одиночества» Г. Г. Маркеса появились на свет только благодаря тому, что Достоевский был «на время забыт».
Гордых писателей – Горького, Бунина, Набокова – это условие раздражало и приводило в гнев, до ярости и бранных слов. Умные (их большинство) – Мережковский, Томас Манн, Гессе, многие другие – сделали Достоевского своим знаменем, символом веры, обезопасив свое искусство статусом ученичества. Писатели смиренные – их имен мы не знаем – отказались от писательского ремесла, видя всю тщетность собственных усилий перед мощью и величием творений Достоевского.
Искусство Достоевского стало головной болью для всех без исключения (даже таких, как герой Болдуина) художников XX века.
Ведь Достоевский не просто «властитель дум».
«По роду своей деятельности принадлежа к художникам-романистам и уступая некоторым из них в том или другом отношении, Достоевский имеет перед ними всеми то главное преимущество, что видит не только вокруг себя, но и далеко впереди себя…» – через год после смерти писателя говорил Владимир Соловьев