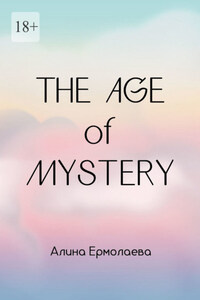Луна – единственный фонарь, которому под силу в ночи объять своим светом всю землю. Ночесь [1] фонарь сей изливал зеленовато-голубой эликсир жизни ль, смерти ль, оттенка дурманящей морской волны и заливал им архипелаг деревьев на поляне с аллеями и клумбами на страже двухэтажного особняка на пригорке, обнесенного выщербленной оградой. Белые стены строения отзеркаливали зеленоватым цветом и клубились легким туманом, окрашенным в него. Звезды, будто высыпали на смотрины, и подавали пригорку безмолвные световые сигналы.
Из открытого окна доносился храп Минотавра, в груди которого сильно заржавел, замшел орган. Храп делался страшным, переносил в страну злых орков, переключался на подсвисты, пыхтение, вскрики ужаса и снова шел оголтелым, беспощадным потоком, громче грохота двигаемой по полу этажом выше мебели. Храп принимал обличия чудовищ, которые то с дубиной, то с железной булавой бросались на тишину, царицу тишину и рвали ее на части, как санкюлоты нежное тело мадам Ламбаль [2].
Звуки эти, да еще выкрики «Заглохни, сволочь! Достал, тварюга!» доносились из открытого окна палаты. Трое пациентов спали, один ворочался, душил уши подушкой и изливал истерзанные чувства в криках души.
По стене палаты, подкрашенной лунным эликсиром, проплыла тень человекообразного создания, мелькнул черный квадрат, – храп усилился, забуксовал и заглох. Замшелый оргáн сломался.
Облегченно вздохнула, воцарилась тишина, вздрагивающая голосами голубоватых сверчков. И тишина эта была так же прекрасна, как мадам Ламбаль на портретах кисти Элизабет Виже Ле Брён. В тишине даже луне легче стало владычествовать.
Черный занавеc, усеянный звездами, распахнулся и под звуки реактивной, стремительной музыки на цирковую арену вынеслась лошадь со звездой на лбу и наездницей на спине, чья юбка развевалась знаменем над летящим хвостом зверя. Наездница вскочила в седле во весь рост, юбка сорвалась и улетела облаком, оставив скачущую в облегающем комбинезоне из серебряной чешуи. Та вскинула над собой руки, приветствуя жаждущих хлеба и зрелищ.
На арену выпустили еще пару кобыл, и циркачка с двумя наездниками стали синхронно делать сальто, перелетая с седла на седло. Из-под купола прилетели серебряные качели с длинным шелковым шлейфом, наездница поймала их и теперь раскачивалась на них, как бы между прочим, одной левой, вытворяя чудеса акробатики. Шквал аплодисментов призвал артистов на трехуровневый пьедестал по подобию олимпийского. Конферансье глашатайствовал в микрофон:
– И, наконец, наша непревзойденная, невероятная и сверхъестественная укротительница диких лошадей, акробатка и эквилибристка легче пушинки, наипрекрасная из наипрекраснейших, невесомая, неотразимая, неподражаемая Гр-р-рета Гор-р-р-б!!!
И несравненная, невесомая и неотразимая, поддерживаемая за руку с двух сторон наездниками, взошла на место золотой середины, приняла на себя цунами аплодисментов, раскланялась и, поймав, букет фиолетовых роз, стала сходить с пьедестала, поскользнулась, наступив на горошину ль, бусинку, молниеносно скатилась вниз на пол. Цирк ахнул. Серебряная наездница лежала на арене, как пойманная в сеть русалка, неловко откинув хвост, и кричала от боли, возможно, скорее, душевной, чем физической. Цирк – не театр, там занавес не опустишь, там арена открыта на все стороны Розы ветров. В центре ее лежала акробатка, эквилибристка, та, что легче пушинки, распростертая на обозрении тысяч жаждущих зрелищ глаз как самое лакомое зрелище, пока вместо занавеса не опустилась тьма: кто-то распорядился выключить свет.