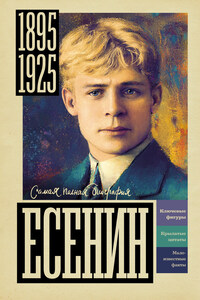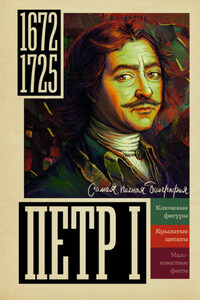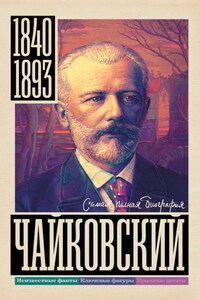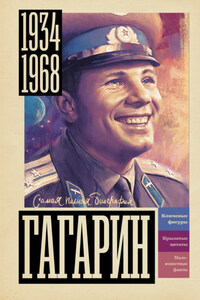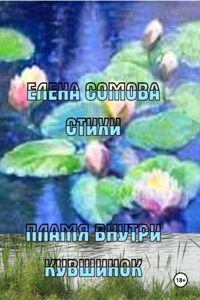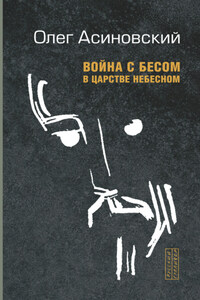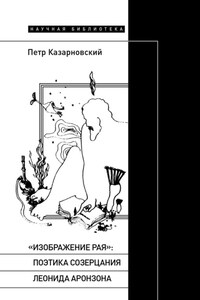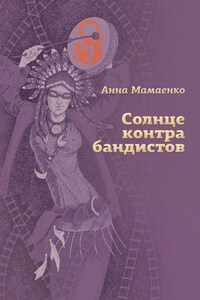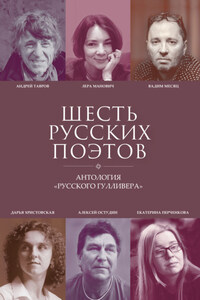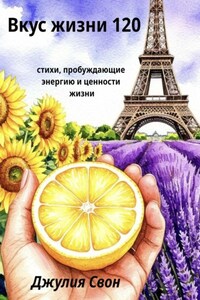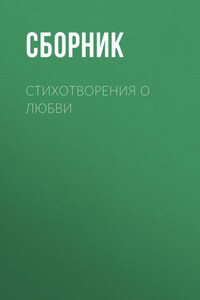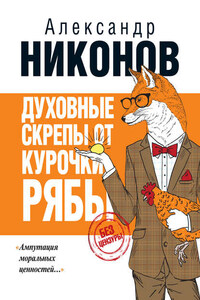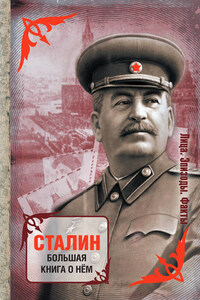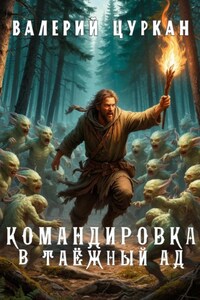Новокрестьянский поэт Серебряного века
Русских поэтов Серебряного века, имевших крестьянские корни, принято отличать от крестьянских поэтов XIX столетия, таких, например, как Алексей Васильевич Кольцов, сын богатого прасола. Торговец скотом – это не совсем крестьянин, но и не дворянин. Интеллигенция не считала Кольцова за своего поэта, хотя и почитывала, и даже похваливала…
Главное отличие между двумя категориями заключается в том, что крестьянские поэты XIX столетия стремились к классицизму, поминая то и дело в своих стихах Аполлона, туники, гроты да «гармонические волны». Если «старые» крестьянские поэты писали о природе, то делали это с максимально возможным изяществом, как, например, тот же Кольцов в стихотворении «Осень»:
Настала осень; непогоды
Несутся в тучах от морей;
Угрюмеет лицо природы,
Не весел вид нагих полей;
Леса оделись синей тьмою,
Туман гуляет над землею
И омрачает свет очей.
Крестьянские поэты начала ХХ века своей крестьянской сущности нисколько не стеснялись, а, напротив, гордились ею. «Родовое древо мое замглено коренем во временах царя Алексея, закудрявлено ветвием в предивных строгановских письмах… – писал глашатай новой крестьянской поэзии Николай Алексеевич Клюев, сыгравший заметную роль в судьбе Сергея Есенина. – Отцы мои за древлее православие в книге Виноград Российский[1] навеки поминаются».
Если мы сравним кольцовскую «Осень» с клюевской «Осинушкой», то разница между старыми и новыми крестьянскими поэтами станет понятна без комментариев.
Осинушка
Ах, кому судьбинушка
Ворожит беду:
Горькая осинушка
Ронит лист-руду.
Полымем разубрана,
Вся красным-красна,
Может быть, подрублена
Топором она.
Может, червоточина
Гложет сердце ей,
Черная проточина
Въелась меж корней.
С «Осинушкой» перекликается в определенном смысле есенинская «Береза», но оба этих стихотворения весьма далеки от того, что писал Кольцов (хотя писал он очень хорошо).
Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой…
Если прежде у деятелей искусства было модно просвещать простой народ, то в ХХ веке настала пора учиться у народа, искать в своих корнях то, что не могла дать западная, интеллигентская культура. «Народ – это, конечно, подлинное Слово жизни, но лишь тогда, когда к нему вплотную припадают», – писал известный в свое время литературовед и критик Иванов-Разумник.
Яркие и красочные черты деревенского быта сочетаются у новых крестьянских поэтов с элементами символистской поэзии, олицетворением которой были Валерий Брюсов, Константин Бальмонт, Андрей Белый и, конечно же, Александр Блок, которого можно считать литературно-идеологическим антагонистом Сергея Есенина. Впрочем, начиналось их знакомство вполне благостно. При знакомстве, состоявшемся в марте 1915 года, Блок нашел есенинские стихи «свежими» и «голосистыми». «Дорогой Михаил Павлович! – напишет Блок несколькими днями позже в рекомендательном письме известному литератору Мурашеву. – Направляю к вам талантливого крестьянского поэта-самородка. Вам, как крестьянскому писателю, он будет ближе, и вы лучше, чем кто-либо, поймете его».
3 июля 1916 года на квартире Мурашева, находившейся в Москве на Театральной площади, Есенин запишет в альбом свое стихотворение «Слушай, поганое сердце…».