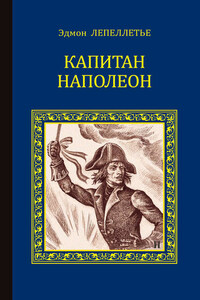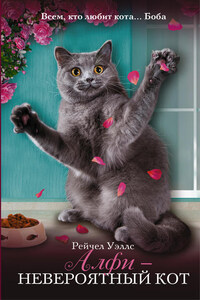Отец был счастлив. Я не думал, что он на это способен. Временами его лицо, когда на нем не отражались волнения и тревоги, немало меня беспокоило.
Сидя на корточках на куче щебня и обхватив руками колени, он смотрел, как ветер обнимает, приглаживает и яростно колышет обильную ниву. Пшеничные поля волновались подобно тысячегривым лошадям, скачущим галопом по равнине. Зрелище напоминало морскую гладь, беременную зыбью. Отец улыбался. Я совсем не помню его улыбающимся – он был не из тех, кто выказывал свое удовлетворение, да и испытывал ли он его на самом деле?.. Закаленный жизненными трудностями и испытаниями, с вечно затравленным взглядом, он вел жизнь, являвшую собой нескончаемую череду неудач, и как огня боялся превратностей судьбы, уготованных завтрашним днем, вероломным и неуловимым.
Друзей у него, насколько я знал, не было.
Мы жили замкнуто на своем клочке земли, подобно предоставленным самим себе призракам, в поистине космической тишине людей, которым особо нечего сказать: мать, вечно стоявшая над чаном в тени нашей лачуги, машинально помешивая в нем бульон из корнеплодов, с сомнительным вкусом и запахом; младше меня тремя годами сестра Зара, забытая всеми в углу хижины и настолько тихая, что ее присутствие порой совершенно не ощущалось, и я, тщедушный, нелюдимый мальчишка, едва достигший поры расцвета, но тут же начавший увядать, который нес свои десять лет как тяжкое бремя.
Это была не жизнь – так, существование, не более того.
Если ты просыпался утром, это было сродни чуду, а ночью, когда все ложились спать, каждый спрашивал себя, не лучше ли закрыть глаза навеки, потому как все уже позади и жизнь не стоит того, чтобы задерживаться долее в этом подлунном мире. Дни отчаянно напоминали друг друга: ничего никогда не приносили и лишь избавляли нас от редких иллюзий, маячивших перед носом, наподобие морковки, которой машут перед глазами осла, заставляя его двигаться вперед.
Тогда, в 30-х годах, эпидемии и нужда косили людей и скот с какой-то невероятной, маниакальной извращенностью, обрекая выживших либо на массовый исход, либо на нищету и бродяжничество. Наши немногочисленные родственники больше не подавали признаков жизни. Что же до жалких доходяг, порой маячивших на горизонте, мы были уверены: их унесет первый же порыв ветра, и ухабистая тропинка, ведущая к нашей лачуге, постепенно стала зарастать.
Средства от этого у отца не было.
Он любил в одиночку пахать, с такой силой надавливая на плуг, что губы его белели, а лицо покрывалось потом. Порой он казался мне каким-то божеством, сотворяющим свой мир, и тогда я наблюдал за ним долгими часами, очарованный его силой и рвением.
Когда мать просила меня отнести ему еды, мне не было никакого интереса тянуть. Свой скромный обед отец съедал без промедления, стремясь как можно быстрее вернуться к работе. Мне хотелось, чтобы он молвил мне ласковое слово и уделил хотя бы капельку внимания, но взор его неизменно был обращен на пашню. Здесь, в самом центре этой пшеничного цвета вселенной, он был в своей стихии. Ничто и никто, даже самые дорогие его сердцу люди, не могли его от нее отвлечь.