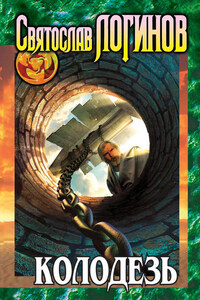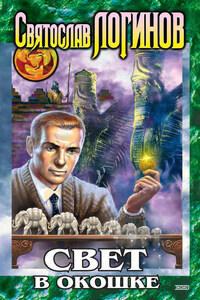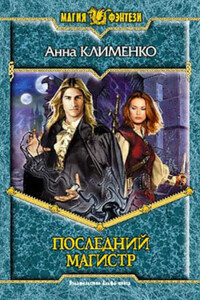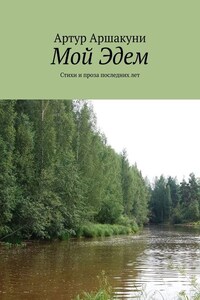Нет ничего живее несвоевременной смерти. Петух с отрубленной головой носится по двору, хлопая крыльями, как при жизни не доводилось, и разве что вместо громогласного кукареканья рвутся из пересечённой шеи кровавые брызги. Выделывая невиданные коленца, пляшет удавленник в петле. И даже умирающему от тяжкой, все соки вытянувшей болезни, за день до кончины возвращается юношеская живость.
Среди орудий несвоевременной смерти живее всех – огонь.
Огонь родился под центральной лестницей, чьё дубовое великолепие скрывало каморку, полную самого дрянного барахла, стащенного нерадивыми слугами. Пыль, тряпки, рассохшаяся мебель, вытащенная из людской и не донесённая до свалки, ветошь, рухлядь, сор… всё это занялось разом, словно маслом плеснули, запылало, заиграли языки пламени, лестницу заволокло дымом, отрезавшим обитателям замка путь к выходу.
– Пожар! Горим!.. – нет этого крика. Пусты залы, длинные переходы, комнаты челяди. Никто не пытается спастись, никто не пытается бороться с пожаром. Тёмные окна одно за другим освещаются одичалым, вырвавшимся на свободу огнём, и через минуту за недавно тёмными проёмами уже не переходы и не парадные залы, а воющая стихия. И лишь в одном окне на третьем этаже умирающего дома мерцает тихий прирученный огонёк – ночник или лампадка. Но вот там замелькали всполошенные тени, и, наконец, ударил отчаянный крик погибающих. Кричали в два голоса: один чуть постарше, второй совсем детский, тонкий дискант. Кричали долго, обычно дым заставляет умолкнуть раньше. А потом свет ночника потерялся в грандиозной иллюминации, и слышался лишь хруст, треск рушащихся балок, и снова хруст, с которым пирующая смерть пережёвывала добычу.
Замок был охвачен огнём от основания до самой крыши, только одна башня, нелепо прислонённая к правому крылу здания, древняя, выстроенная в те времена, когда замок был ещё не дворцовой усадьбой, а крепостью, мрачно возвышалась над рушащимися стенами. Огонь обходил её стороной, да и чему было гореть среди голого камня? И когда с грохотом обвалилась крыша и стены верхних этажей, башня осталась неколебимой.
Человек, наблюдавший за бедствием с дальнего холма, отвёл взгляд, прикрыл ладонью глаза, чтобы привыкли к окружающей тьме, немного спустился в сторону ложбины, где ожидал стреноженный конь, и начал разжигать свой, мирный огонь. Отобрал среди заранее набранного хвороста сучья потоньше, сложил их костром, повесил котелок с водой. Потом, не доставая огнива, провёл над ветками ладонью, и костёр запылал разом, ярко и празднично. Человек, сидящий у костра, понимал толк в огне и, наблюдая за пожаром, видел, как бессмысленно его тушить и бесполезно пытаться спасти хоть кого-нибудь.
* * *
– У тебя есть право первой ночи?
– Согласно каноническому своду – есть, но в нашей стране такое не принято, и я не чувствую себя вправе пользоваться им.
– Так и не пользуйся, отдай его мне.
– Кто тебе мешает? Иди в деревню, – деревенские девки покладисты – уговаривай, подкупай, соблазняй… Но не называй при этом моё имя. Право первой ночи – дикий, варварский обычай, я рад, что он отошёл в прошлое даже в тех странах, где прежде процветал.
– Как видишь, не вполне отошёл.
– Мне очень жаль, если это так.
– Не думал я, что хозяин Рэндол-замка столь негостеприимен…
И без того мрачное лицо лорда потемнело ещё больше.
– Я думаю, у тебя нет причин для недовольства. Ты просил в своё распоряжение башню – ты её получил. Ты живёшь в замке уже полгода, занимаешься чем хочешь и распоряжаешься как хозяин. Я ни разу не упрекнул тебя, хотя твоим требованиям нет конца. Но сейчас я говорю: «Нет!»
– Не упрекнул? А кто секунду назад ставил мне в вину, что я посмел ютиться в старой полуразваленной башне? Не беспокойся, я скоро уйду, и ты получишь свою драгоценную башню целой и невредимой. Но сначала ты прикажешь, чтобы невесту привели ко мне. В конце концов, я не желаю жить монахом.