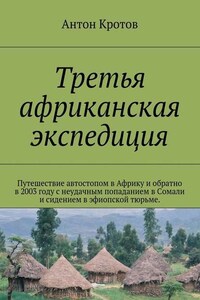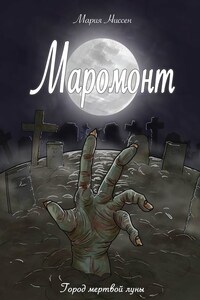Она умерла.
Ромаша плотнее запахивает черный кардиган. Вуаль прячет глаза, шляпка опирается на аккуратный узел белоснежных волос, но Ромаша все равно знает, что отец недоволен ее внешним видом: она чувствует это в каждом его случайном взгляде, в появляющейся между бровями легкой складке. Он считает, что для людей его уровня демонстрировать эмоции преступно. Никто не должен знать, насколько ты уязвим, иначе тебя поглотят, уничтожат. А губы Ромаши предательски дрожат. Она гордо поднимает голову, чтобы не позволить слезам пролиться, но все равно их приходится едва заметно стирать, пока отец занят принятием соболезнований от всех тех, ради кого он держит лицо, и не смотрит на нее.
Гроб мамы уже под землей, оркестр отыграл прощальный марш, а Ромаша все никак не может изгнать с внутренней стороны век видение песчаных комков, гулко падающих на деревянный ящик – последнее пристанище единственного человека, который ее любил.
Мама умерла.
– Романна, – зовет отец. Ромаша вздрагивает и разворачивает плечи еще сильнее, не давая себе пригнуться от взгляда и голоса отца.
Он ждет ее у выхода из банкетного зала у церкви, где проводили посмертную службу и официальный траурный прием. Отец считает это политическим мероприятием, а Ромаша слишком подавлена, чтобы принять чужие соболезнования с достоинством. Чтобы не плакать.
Ее нос плотно заложен, но она все равно чувствует резкий сладко-дурманный запах традиционных посмертных лилий. Это совсем не в духе мамы. Она бы никогда не выбрала эти цветы. Она никогда не заказала бы ванильно-коричные хлебцы, независимо от того, насколько именитый кондитер их сделает. Она никогда бы…
– Пойдем, дорогая, – отец кладет ей руку на спину и незаметно подталкивает к выходу.
Никто не знает, что от этого небольшого движения, на спине Ромаши расцветут синяки и будут держаться там неделю, не давая спать и причиняя боль при каждом движении. Будь Ромаша на тридцать килограмм легче, толчок окончился бы падением. Но это все равно не так больно, как тяжелый, саднящий горло дух, идущий от маминого гроба.
Отец пропускает ее вперед, и они садятся в темную машину.
Изнутри ясное небо кажется затянутым густыми облаками. За Ромашей захлопывают дверь, пока она пытается удобнее разместиться на скользких кожаных креслах и не задохнуться в густом амбре кожи и парфюма отца.
– Что ты елозишь? – отец поджимает губы и отворачивается от нее. Конечно же, Ромаше прекрасно это известно, чтобы не видеть собственный позор в виде нее. Сейчас, наверное, достанет свои деловые бумаги и опять примется за работу.
Но он только откидывается на спинку и переводит тяжелый взгляд из-под полуопущенных век куда-то на улицу.
Ромаша никогда не могла понять, почему мама выбрала отца. Потому что он богат? Дедушка тоже был сказочно богат – деньги отца вряд ли играли для мамы важную роль. За его красоту? Отец действительно красив, но как-то тяжеловесно: крупные резкие черты, губы, вечно сжатые в недовольную линию, жесткий прищур золотисто-ореховых глаз, идеальная стрижка каштановых волос. Глядя на него, Ромаша испытывает трепет, иногда горло пережимает страх, но никогда она не чувствовала тепло или любовь к нему. Неужели ее дорогая мама повелась на его редкую обаятельную улыбку, которую тот дарит всем, кроме семьи?
Ромаша отворачивается. Собственное лицо мелькает в отражении на тонированном стекле. Хорошо, что она пошла полностью в мать, получив от отца только его глаза. Белые волосы, бледные ресницы и брови, сейчас подкрашенные по требованию отца, полные губы, лицо сердечком. Только у нее много-много лишнего веса, а мама всегда была худышкой. Ромаша закусывает губу, чтобы не расплакаться.