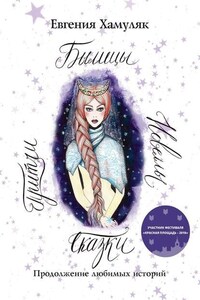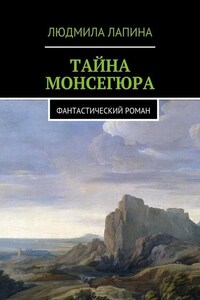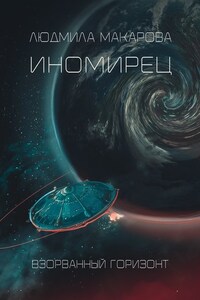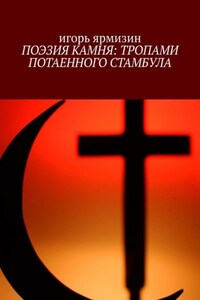Позабыв Золотую Орду,
Пестрый грохот равнины китайской,
Змей крылатый в пустынном саду
Часто прятался полночью майской.
Николай Гумилев
Когда гремит гром, я думаю, что это мой брат Рагне скачет на юг, чтобы сложить голову в битве против Сармата-дракона. Копыта его коня топчут дикие травы, а из горнила боевого рога льется страшный рев. За его спиной – тысячи копий, но нет копья, способного пробить драконью чешую.
Когда падает снег, мне кажется, что это юный Ингол, тот из нас, кто умер первым, идет по горным перевалам. Он бос, но не чувствует холода. Он простирает к нам руки и просит нас оставить эту войну, ведь все мы – братья.
А когда с гор сходит каменная лавина, я думаю, что это я. Раз за разом предаю единственного, кто мог одолеть Сармата, и преклоняю колени перед чудовищем.
Говорят, твоя свирель издает волшебно чистые звуки и заставляет людей повиноваться своему зову. Так играй. Каменное сердце не дрогнет, но, если я смогу забыть своих братьев хотя бы на мгновение, я буду счастлив.
Говорила мне бабка лютая,
Коромыслом от злости гнутая:
– Не дремить тебе в люльке дитятка,
Не белить тебе пряжи вытканной, —
Царевать тебе – под заборами!
Целовать тебе, внучка, – ворона.
Марина Цветаева
Они покидали Черногород на рассвете. Узкие облака находили друг на друга, напоминая дорожное перепутье – или светло-серую паутину тумана, расползшуюся по всему небесному куполу. Птицы летали низко, прорезая крыльями стылое утреннее марево, а солнце казалось блюдом из потемневшей бронзы. Было хмуро и холодно. Дурной знак. Тогда Оркки Лис впервые заявил, что от этого похода добра не будет, и его, конечно, никто не послушал.
Уезжали на трех крытых телегах. В первой лежали припасы для людей, идущих к Матерь-горе. Во второй была дань, а в третью посадили драконью невесту и купленную для нее старуху-рабыню. Девушку вывели из Божьего терема, с головы до пят закутанную в бледно-лиловое покрывало, – Оркки и видел только полную фигуру да белые руки, за которые ее вели две женщины. Провожатые пели и сыпали под ноги драконьей невесте крупу из плетеных корзин, и от их глубоких, звенящих голосов Оркки зябко поежился.
– Ветер с северо-востока, – объяснил он, перехватив взгляд Тойву, предводителя похода. И поправил ворот мехового плаща. – Морозно.
Тойву кивнул. И, прочертив воздух загрубевшей ладонью, погладил шею мерно дышащего коня. Под Оркки же конь дрожал – нервно постукивал копытами, пока хозяин перебирал поводья и прищуренно наблюдал за драконьей невестой, ступавшей по рассыпанному зерну.
– Недобрый у тебя взгляд, Оркки Лис. – Тойву чуть улыбнулся из-под медно-рыжих усов. Его выдох повис прозрачной сизой дымкой. В ответ губы Оркки изогнулись, а пальцы сильнее сжали поводья.
В горле женщин, которые вели драконью невесту, ходил неземной звук. Так умели лишь горы: песня дробилась на многоголосое эхо и окутывала вершины, как мертвеца – саван. Эта песня была не то свадебная, не то поминальная, и горсти крупы медленно ложились на мерзлую землю. Тронутая инеем трава, схваченные морозом цветы и осыпавшиеся ягоды рябины – провожатые разбрасывали зерно, будто засеивая поле, которое топтала драконья невеста. Она покачивалась, словно ладья на волнах, послушно плыла по седой траве и красным ягодам, и женщины подле нее пели настолько звучно и страшно, что, не выдержав, Оркки отвернулся.
– Прогнать бы всех, – сплюнул он, посматривая на столпившихся зевак.
К Матерь-горе уходили не за ратным подвигом. В жены отдавали не княжну, а пастушью дочь, и не славному воину, а Сармату-дракону. Тому, кто спал, заточенный в недра горы, тысячу лет и проснулся тридцать зим назад. Но люди, замкнув Божий терем в кольцо, шелестели кафтанами и юбками, платками и шапками, мехами и сукном, выпускали изо ртов голубоватый пар и пытались удержать вырывающихся вперед детей. Хотя не было ни князя, ни оставшихся его дружинников – тех, что не пошли с Тойву. Князь понимал, что к Матерь-горе везут позорный откуп – мольбу о пощаде, и свои приказы отдал без лишних ушей.