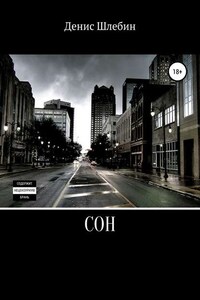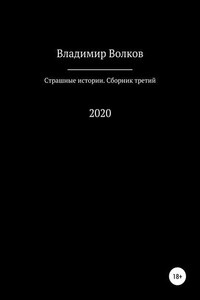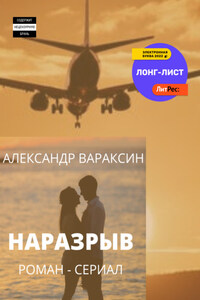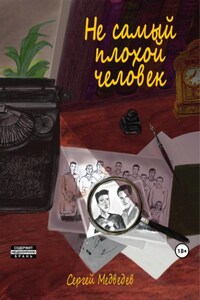Звякалки появились осенью, в первых числах ноября. Город готовился ко дню рождения. На фоне закоченевших, голых ветвей серые люди развешивали флажки – украшали безликие хрущёвки и сталинки, чиновничий бетон и рубиновый кирпич.
На озябшую землю робко опускался первый снег и тут же таял. Дыры в асфальте были похожи на глаза, полные слез. В них отражалось белое, пористое небо.
В квартиры начали звонить. Среди тишины – звук. А когда шли открывать – никого. Пустая и гулкая лестничная клетка, стук удаляющихся шагов, иногда застывший в воздухе смешок. И так не раз, и не два, а тысячи раз в тысячах домов.
Сначала люди боялись говорить друг другу, что с ними приключился такой морок: думали, это хулиганы. Потом и вовсе перестали открывать двери. Но в них звонили, в них стучали. И вот однажды фрезеровщик Гена за кружкой тёмного в тёмной пивной осторожно сказал дружку:
– Знаешь, ко мне хулиганы какие-то повадились. Звонят в дверь и убегают.
Над головой дружка мельтешил футбол. Вокруг гомонили здоровые мужики – все свои, все работяги с тяжелыми руками и мясистыми затылками.
– Ты их видел? – сварщик Никита напрягся, глотнул из своей кружки. Он был высоким и жилистым, словно его мягкое тело вытянули, как лапшу, и оставили сушиться на солнце, вот он так и застыл – длинный и смуглый.
– Нет, не успел, – Гена понизил голос. – А что?
– Да так, – Никита дёрнул плечом. – Просто ко мне в дверь тоже звонили. Я уж начал думать, что схожу с ума. Но вдвоем же мы не могли свихнуться. Значит, это банда какая-то звякает.
– Поймать и надавать.
– Да ладно. Сам будто такого никогда не делал в школе.
– Я? – возмутился Гена шутливо, – Никогда!
По первому ледку стучали каблуки. Женщина в синем пальто шла уверенно, изредка поскальзывалась, но не падала. Она легко размахивала руками: правой – левой – правой – левой, как метроном.
Успела проскочить на зелёный. Справа мелькнули окна пивной, где оттягивались после смены ребята с литейно-механического. Она завернула во двор, вилявший криулями. На детской площадке, среди высоченных тополей, словно нахохлившиеся птицы, притихли матери. Толкаясь, с горки съезжала малышня.
Ноздри резал холодный, жёсткий воздух. Воздух горчил.
Впереди показался розовый домик с большими, чистыми окнами. Женщина прибавила шагу. Перемахнула через узкую односторонку по затёртому пешеходнику. Взмахнула на высокое крыльцо…
Никита и Гена учились в одном колледже. Потом пришли на завод. Оба были местные – череповецкие. Один высокий, с острыми, хищными чертами – Никита, второй мелкий и щуплый – курносый нос, уши оттопыренные – Гена.
Но на работе они проходили по одному разряду – Болик и Лёлик. Донимали начальство бесконечными жалобами и нытьем: то недоплатили им, то щи в столовке жрать нельзя, то бригадиром не того поставили. Было в них что-то общее – смешинка. И шутки были одни на двоих – дурацкие.
Никита стеснялся женщин. Говорил, что никогда не женится. Все силы свои тратил на обустройство дома в деревне, куда хотел удалиться в старости (до которой еще ой-ой сколько) и где хотел жить, как бирюк, выезжая только на охоту и рыбалку.
Гена, с его средним профессиональным, умудрился приклеить к себе учительницу математики из тридцатой школы – быструю и ловкую Анастасию Николаевну. Эта молодая женщина – не слишком красивая, но умная, стала для него идолом. Она всё пыталась «сделать из него человека». Читала вслух Достоевского и Набокова, отправляла учиться в институт:
– Без корочек не пробиться!
Она покупала ему рубашки в мелкую полоску, замшевые туфли. Отучила носить жиганку и трикотажный спортивный костюм.
Гена слушал её и улыбался. Он дарил ей розы, писал под окнами: «доброе утро, солнышко!». Пел страдательные песни под гитару. Любил её атласные щёки, её строгие серые глаза, которые как гранит, её бледные слабые руки. Он любил её, как любят всё возвышенное – с придыханием.