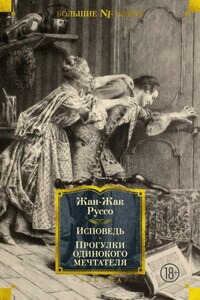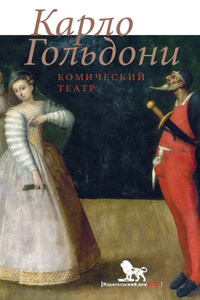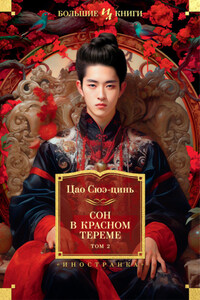Почему я начала писать свои воспоминания – Маркграфиня Байрейтская – Последний польский король – Белосток – Краковская кастелянша – 18 апреля 1794 года – Взятие Праги русскими 4 ноября 1794 года
Это было в 1812 году. Я только что прочитала необыкновенные мемуары маркграфини Байрейтской, появление которых, по словам Наполеона, знаменовало собой вторую Йену для Брандебургского дома: столько мерзостей и дрязг раскрыла эта книга. Я была тогда очень молода, и мной овладело желание записывать свои воспоминания по мере того, как я буду стариться. В это время мемуары не фабриковались дюжинами, а авторы их писали более или менее откровенно о том, чему сами были свидетелями. Мне казалось, что я, не хвастаясь, могу собрать материалы гораздо более интересные, чем те, которыми добрая маркграфиня обессмертила свое имя.
Итак, я принялась за дело. Мало быть сестрой великого человека[1]; меня это иногда тревожило, так как я отлично понимала, что в ее мемуарах прежде всего искали грубые шутки о Фридрихе Великом.
Хотя я тоже была «королевского рода», выражаясь стилем маркграфини, тем не менее я никогда не получала пощечин, не ела супа с волосами и ни разу не была арестована. Мы жили не в грязном и бедном княжестве, а в одном из великолепнейших замков континента, но это, конечно, не так интересно и не так пикантно, как то, что рассказывает маркграфиня о своей резиденции[2]. Как современница великого века, я основывала свои надежды, главным образом, на интересе, который вызывает то славное время.
Но излагать свои воспоминания и ни слова не сказать о себе – едва ли возможно; чтобы вызвать к себе доверие, необходимо прежде всего познакомить с собой читателя.
Моя мать [Констанция Понятовская] была племянницей нашего последнего короля – Станислава Августа Понятовского. Благородная фигура этого монарха, величие его манер, ласковый и меланхоличный взгляд, серебристые волосы и красивые, слегка надушенные руки – все это до сих пор живо в моей памяти. Время, к которому относятся эти воспоминания, совпадает с нашим последним несчастьем, третьим разделом Польши в 1784 году.
Моя мать последовала за королем в Гродно, куда он принужден был отправиться по настоянию русских. И там из окна маленькой комнатки, куда меня поместили вместе с гувернанткой, я каждое утро могла наблюдать выезд пленного короля. Русские солдаты так напугали мое детское воображение, что нужен был весь авторитет матери, чтобы заставить меня переступить порог комнаты, – хотя и не без сопротивления и слез с моей стороны.
Угрюмая тишина царила в замке, где все семейство короля собралось, чтобы сказать последнее прости несчастному, на которого императрица Екатерина сначала возложила корону, а затем – цепи. Увезенный в Петербург, он долгой и мучительной агонией искупил ошибки, совершенные по воле императрицы, ошибки, которыми она сумела воспользоваться с хитростью, беспримерной в истории[3].
При других обстоятельствах Понятовский с достоинством занимал бы престол. Его царствование составило эпоху в научных летописях. Он воскресил в Польше вкус к искусствам и литературе, задавленный владычеством саксонских курфюрстов, грубость которых породила во всей стране губительную реакцию и оскорбительную поговорку: «Когда Август пьет, Польша пьянеет!»
Станислав Понятовский, наоборот, находил удовольствие в занятиях благородных и полезных, проводя почти все свое свободное время в кругу ученых и художников. Обширное и разностороннее образование соединялось в нем с утонченным вкусом и умом, полным очарования. Легко владея как мертвыми языками, так и языками стран, по которым путешествовал, Понятовский в высшей степени обладал способностью пленять своих слушателей, умея в то же время самым искусным образом польстить их национальному самолюбию или личному тщеславию. Он имел сердце благородное и возвышенное, великодушно прощал своих врагов, часто не зная границ своим благодеяниям. Но природа, столь щедро одарившая его как человека частного, отказала ему как государю в том, без чего нельзя царствовать: в силе характера и твердой воле.