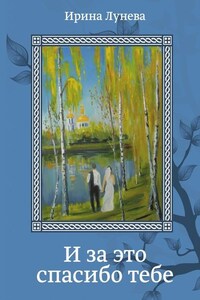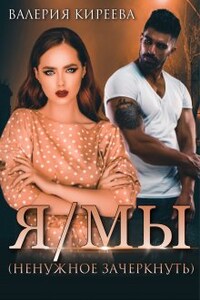К полудню мы останавливаемся: старик устал, дышит с трудом, его грудь вздымается и опадает со свистом, напоминая прохудившиеся мехи. Я опускаюсь на первый попавшийся камень и перевожу дыхание. Мы не бежим, нет, просто дорога на Кодуа бесконечна – бесконечна, как поиск давно забытой цели.
– Зачем ты идёшь в Кодуа, Бенсон? – в который раз спрашивает старик.
Он сидит на поваленном бурей дереве и смотрит перед собой. Он слепой. С памятью у него тоже проблемы: по три раза на дню я отвечаю на этот вопрос и имя моё не Бенсон.
– Хочу разбогатеть. Может, прославиться.
Старик кивает, как будто лелеет те же мечты.
– Хорошо.
Он весь покрыт дорожной пылью; когда он говорит, кажется, что из горла вместе со звуками вырывается песок. Дряхлый, дряхлый старик.
– Ты ведь не бросишь меня? – спрашивает он некоторое время спустя.
Каждый раз после этой фразы я вспоминаю нашу встречу (степь, дорога, осколок скалы, осколок человека – кто бросил тебя, старик?) и не могу отделаться от ощущения, что меня не спрашивают.
Нам по пути.
Мы отдыхаем не меньше часа. Дорога на Кодуа – не самый оживлённый тракт империи, но определённо самый протяжённый. Город лежит в пятидесяти милях от нас, и с каждым милевым столбом я всё больше уверяюсь, что вдвоём мы не дойдём.
К ночи на степь опускается прохлада, на небо высыпают звёзды. Мы ночуем под редкой кроной старого дерева, и я рассказываю своему спутнику, как выглядят мигающие огоньки над нашими головами. Я всё ещё не могу свыкнуться с мыслью о том, что он не видел звёзды последние сорок лет.
Он ослеп раньше, чем я родился.
– Зачем ты идёшь в Кодуа, Мартин?
Я пожимаю плечами.
– За деньгами. За вниманием. За общением, в конце концов.
Глубокой ночью я просыпаюсь от дождя и накрываю старика своим плащом. Его одежды прохудились вместе с ним.
Утром мы, скрипя и охая, поднимаемся, грызём сухари и трогаемся в путь. Мы едва ползём, и солнце вскоре обгоняет нас.
– Ещё немного, – говорю я старику, а на самом деле – себе.
В Кодуа у старика внуки. Про детей он не говорит. Я задаюсь вопросом, как он мог решиться на пеший поход через степь, но задаюсь молча: осколок человека не проявляет желания поболтать. Из последних сил, но он переставляет ноги – так, словно и его в Кодуа ждут известность, внимание и богатство.
К новому вечеру старик выдыхается. Он устаёт не только физически. Тонкие ниточки, что держат его душу в дряхлом теле, рвутся одна за другой.
Я помогаю ему лечь в траву, где погуще и нет камней.
– Зачем ты идёшь в Кодуа, Александр?
Я больше не могу отвечать. Я отвечал на этот вопрос так часто, что перестал осознавать, что именно говорю, перестал чувствовать, что означают эти слова.
– А я, – вдруг говорит старик, и слова обращаются скрипом, – я давно хотел поглядеть на внуков.
Утром я продолжаю путь один. Я иду быстрее, но с каждой милей чувствую оставшееся позади всё острее, словно то, что я оставил, было дорого мне.
К началу пятого дня в низине я вижу башни и валы Кодуа, прямые как стрелы улицы, площади и дома, от белых стен которых отражается солнце. Останавливаясь, я вытираю пот со лба и всматриваюсь в город до боли в глазах.
Я пришёл. Достиг половины своей цели. Я должен бежать, а вместо этого стою на холме, в получасе ходьбы от мечты, с пустой головой и бьющимся от усталости сердцем.
Что-то во мне обрывается камнем, и я спрашиваю себя:
– Зачем ты пришёл в Кодуа, Бенсон?