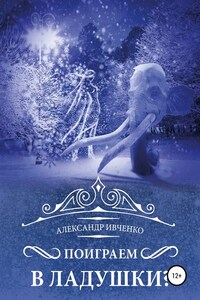Вечерний разговор с курицей
Старая Берта жарит курицу.
Курица ворочается, топырит локти, сгребая на себя жир со сковородки. И ворчит:
– А салом что – нельзя было нашпиговать?
– Было бы слишком жирно. Это вредно.
– Слишком? И не стыдно тебе, старуха? Посмотри, какая сухая кожица, ты ж не прокусишь ее своим протезом. Скажи честно: ты его съела?
– Что?
– Все сало?
Берта смотрит в сторону.
– Ночью, да? – не отстает курица.
– Я не могла спать. Я совсем не могу спать. Они приходят и разговаривают.
– Они? Кто они?
– Я не знаю. Вчера приходил один. В шляпе.
– В очках и с портфелем? И при галстуке? – Голос курицы полон сарказма, но старуха этого не замечает.
– Он сказал: «Если бы ты, Берта, тогда поговорила с ней, ничего бы не произошло. Она бы одумалась. Ей просто не хватало нормальных человеческих слов».
– Кому ей, старуха? О ком вообще речь?
– Я не помню. Но ведь я не поговорила с ней?
– При чем здесь сало? Пей валерьянку.
– Я отломила большой кусок хлеба. Положила на него сало. Отрезала половину луковицы. Налила чай. Некрепкий. На ночь вредно крепкий. Взяла банку с медом. На ночь хорошо мед.
– А сало на ночь плохо. Дальше можешь не рассказывать. Ты взяла все это к себе в постель и съела. И уснула, не стряхнув крошек с простыни. Не убрав с табуретки луковую шелуху. Кстати, зачем ты натерла меня чесноком? У тебя ведь от него изжога.
– В прошлую ночь их было двое. Они говорили: «Если бы ты, Берта, тогда решилась уехать, все сложилось бы по-другому. Но ты струсила». Они правы. Я струсила. Как я могу спать?
Старуха тычет в курицу ножом. Курица совсем жесткая. Она отодвигается подальше от ножа и спрашивает:
– Куда? Куда ты не решилась уехать?
– Не помню. Я люблю чеснок. Он пахнет югом.
– Когда ты уже пригласишь мастера, чтобы он починил духовку? Как вообще можно жарить целую курицу на сковородке? Я же никогда не прожарюсь!
– Я все равно не буду тебя есть. Они придут и скажут: «Ты разговаривала с ней, как с сестрой, а потом съела. Ты сволочь, Берта». Нет уж. Я отпущу тебя на волю, птица. Лети, куда хочешь.
– Ты совсем сбрендила, старуха. Жареные куры не летают.
– Но ты и не прожарилась.
– Куры вообще не летают, дура.
Берта выключает огонь. Берет курицу за ногу и подходит к окну.
– Лети, моя птица!
Курица пробивает синюю толщу ночи и шмякается в траву.
Старуха идет в комнату, на ходу вытирая руку о фланелевый халат. Откидывает покрывало с ветхой тахты. Снимает халат. Под ним ночная рубашка. Берта выключает свет, забирается под ватное одеяло. Долго пытается удобно улечься, скребет пятками по простыне. Кряхтит. Вздыхает. Затихает.
Бездомная собака подходит к курице. Уже, замирая от счастья, открывает пасть, но курица лягает дворнягу, и та, скуля не от боли, а от немыслимого перекоса во вселенной, убегает. Колышется воздух над травой. Курица остывает.
Колышется воздух над тахтой. Сгущается, плотнеет, и вот уже над Бертой склоняется носатая дама с мятыми щеками. Она говорит противным голосом: «Ты испортила ему жизнь. Да и себе заодно. Уметь жить – это тоже талант. А ты бездарность, Берта».
Старуха хватается за провод над тахтой. Шарит, шарит рукой. Нашаривает кнопку. Включает бра. Садится и снова шарит – теперь уже ногами по полу. Нащупывает теплые войлочные тапки, сует в них ноги. Идет на кухню.
Курица легко отрывается от земли, влетает в заросли сирени и долго купается в них. Вся в налипших сиреневых цветочках (два с пятью лепестками), она уносится в небо.
Старуха берет из пакета батон. Отрезает огромную горбушку. Открывает холодильник, достает кружок полукопченой колбасы. Разламывает. Взвешивает куски на руках. Задумывается… Прячет в холодильник маленький кусок, большой забирает с собой.