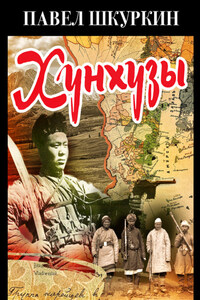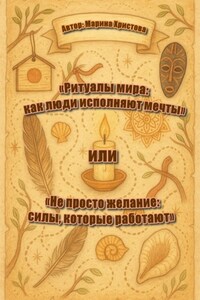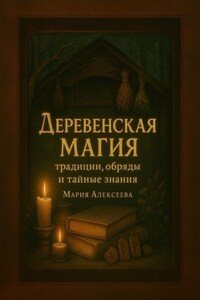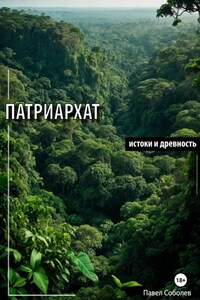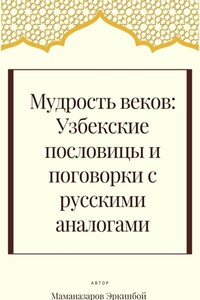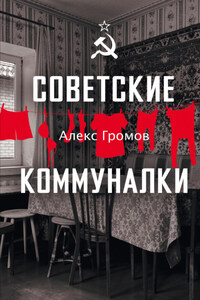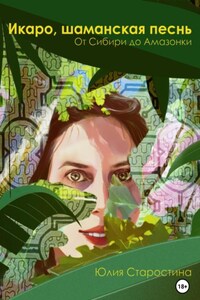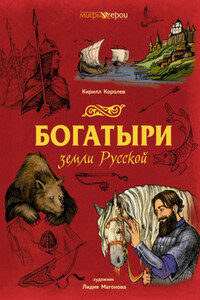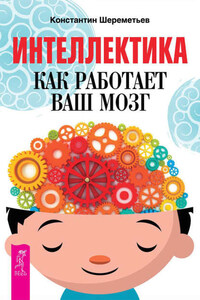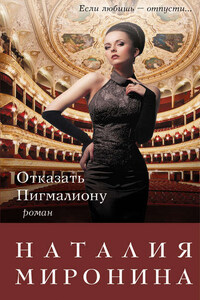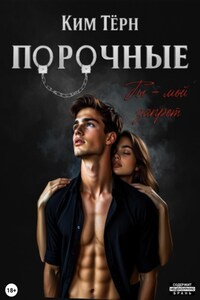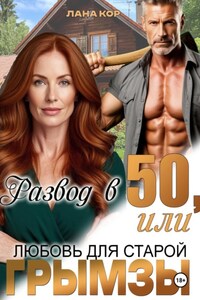Если вы внимательно взглянете на карту нашего Южно-Уссурийского края с окружающим его районом, то вас удивит одно обстоятельство: на всем протяжении нашей государственной границы, начиная от пограничного столба литера Л. (севернее озера Ханка) до столба XI (близ Новокиевского), через нашу границу проходит в сущности лишь одна грунтовая дорога от станции Полтавской до г. Санчагоу.
Есть еще несколько троп от Турьего Рога на Фынь-ми-шань-цзы; от Барабаша на Тумын-цзы (которую несколько лет охранял знаменитый Гасан – штабс-капитан восьмого Восточносибирского стрелкового полка, – турок, взятый в плен в 1879 году, затем крестившийся, женившийся на русской и навсегда оставшийся в России); и две тропы от Сидими на речку Тумыньцзян.
И это на протяжении 340 верст!
Само собою напрашивающееся объяснение этого явления то, что по границе идет, вероятно, труднопроходимый горный хребет. Ничуть не бывало! Горы этого района совсем не так дики, как кажутся, и дорог, связывающих наш Южно-Уссурийский край с прилегающим китайским районом (Хуа чуань сянь, Дунъин или Санчагоу и Ван-Цин-Сян) было бы гораздо больше, если бы этот район… не принадлежал хунхузам. Железная дорога, перерезавшая эти места, в сущности нисколько не изменила положения дела.
Южная часть нашей пограничной полосы в этих местах заселена главным образом корейцами – русско-подданными; северная – казаками, и по берегу озера Ханка – крестьянами. Отношения между нашим и китайским населением установились весьма странные: не то состояние войны, не то вооруженный мир. Постоянные столкновения, жалобы с нашей стороны на нападение хунхузов и прочее. А между тем те-же казаки сплошь и рядом нанимаются к китайцам охранять маковые поля «от хунхузов» в период сбора опиума-в июле месяце. В Турьем Роге, например, еще недавно (до появления на реке Мурени китайцев-переселенцев, не хунхузов) пользовались и лесом по ту сторону границы, и рыбу ловили, беспрепятственно охотились и т. п. Это им разрешалось, во-первых, потому, что они были покладистее казаков, а во-вторых – потому, что в северной части этого района с китайской стороны нет золота.
Южнее-же, примерно начиная от Сяо-Суйфын, – горы почти сплошь золотоносные, и водворившиеся там «хунхузы» были бы недурными соседями при одном условии: чтобы никто из, «посторонних» не проникал к ним ни с нашей стороны, ни с китайской.
Вот этот-то переход через границу, стремление «поискать» там кой-чего, а при случае – и «молча попросить» что поценнее, – и являются основными причинами столкновений. И в самом деле: выросли панты у оленя, или осенью ревет изюбрь, или мясо нужно-а у Барабашевской Левады кабанов столько, что хоть в хлев загоняй… Ну как тут не пойти на охоту? Пойдешь и забредешь за границу. А как ее определишь, где эта черта? Южнее еще под Барабашем по пограничной черте тропа есть; а дальше к северу она ничем не обозначена, так что многих пограничных столбов и найти нельзя.
Словом, «хунхузы» от наших отмежевались; не смей ходить сюда. И пока это требование исполняется, – все благополучно; раз оно нарушено – столкновение почти неизбежно.
Особенно часты посещения хунхузов местности около поселка А. Это объясняется тем, что казаки поселка отличаются особой «предприимчивостью».
Был в этом поселке казак Бухрастов, состоятельный хозяин и местный кулак, недолюбливаемый даже своими односельчанами за свою крутость и чрезвычайную скупость. Молва довольно определенно приписывала его богатство охоте на «фазанов» (т. е. китайцев) и на «белых лебедей» (корейцев).
В один год в июле, – было это уже лет пятнадцать тому назад, – Бухрастов подобрал человек пять своих приятелей и пошел с ними на охоту. Вернулся дней через шесть; мяса не привез, – но охота была удачна: несколько корешков женьшеня, пару хороших оленьих пантов, уже сваренных, да горсточку золотого песка привез Бухрастов домой, – и все выгодно сбыл китайцам в Санчагоу.