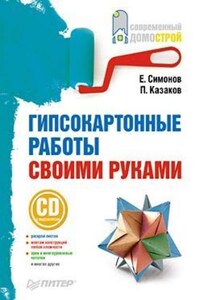Старик сидел в своем любимом массивном, кресле и задумчиво жевал кончик черной шариковой ручки. Света настольной лампы хватало с трудом, чтобы разогнать полумрак кабинета у самого стола, но этого ему было достаточно. Он склонился над чистым листом бумаги, секунду помедлил и начал писать.
Дети мои. Я был жесток с вами.
Нахмурился, перечитал первую строчку, скомкал бедную страничку и выбросил мятый шарик в темный угол, где валялось уже с полсотни его собратьев
Слова никак не хотели ложится на бумагу. Такие простые, обыденные фразы, которые он использовал миллионы раз, которые в голове шли ровными аккуратными рядами и складывались во впечатляющие громады – отхаркивались на бумагу, словно комки шерсти. Это раздражало невероятно.
Он взял из лежащей рядом стопки очередной белый лист и положил перед собой. Провел по его поверхности морщинистой желтоватой рукой, убирая невидимые пылинки. Откинулся в кресле, тяжело вздохнул, негодуя сам на себя, на свое, неведомо откуда взявшееся, косноязычие. Он даже представить себе не мог, что написать обычное письмо будет так трудно. Просто вылить на бумагу все то, что скопилось у него на душе за долгие годы. Казалось, многое из того, что трудно сказать, гораздо проще написать.
Идея с письмом пришла ему довольно давно. Затянувшееся разочарование в собственном существовании переросло в угрызения совести и переоценке всего, что он сделал. Благие помыслы теперь казались исполненными эгоизма, а вынужденная жестокость превратилась в упрямую кровожадность. И от осознания всего этого становилось только хуже.
Преданность в глазах своих детей он воспринимал, как подобострастие, а в их грустных улыбках видел лишь покорную затравленность маленьких зверьков. Что-же он с ними сделал. Когда? Как так получилось?
Он снова взялся за ручку.
Дети мои, Я создал вас для любви, но воспитал во страхе. И в этом моя вина
Да, так уже было неплохо.
Вы не знали материнской ласки, но я не думал, что это так важно. Теперь я понимаю, как ошибался. Я хотел, чтобы вы стали помощниками моими, но превратил вас в свои орудия. Мне горько это осознавать.
Он перечитал только что написанное и скривился. Напыщенная дрянь.
Старик открыл нижний ящик стола, достал початую бутылку виски, такую старую, что прочитать название на этикетке уже было невозможно. Порылся глубже, извлек из недр того же ящика стакан, дунул в него и плеснул темно янтарной жидкости. Он отхлебнул добрую половину, покатал во рту, проглотил одним большим глотком.
Откинулся в своем кресле, прикрыл глаза и позволил расслабляющему дурману алкоголя завладеть мыслями.
Воспоминания. Он считал это единственное, что осталось от него самого. Одни воспоминания. Но даже они играли с ним злую шутку, растворяясь в дымке прожитых лет, теряясь в череде постоянных событий.
Да, он был стар. Невероятно стар. Он даже считал себя бессмертным, правда за маленькой оговоркой. Его никогда не пытались убить. Однако, это не была какая-то немощная дряблая старость. Нет. Он был как огромный вековой дуб, и каждый новый год только добавлял жизни мощным корням. Это было его проклятие. И это было его силой.
Вот только… память. Она не желала мириться с прожитой вечностью.
Он не помнил своих родителей. Он даже не был уверен уже в их существовании. Детство было сплошным черным пятном. Первое яркое воспоминание было о том, как он только создавал этот мир. Как старательно и педантично собирал первого человека. Как вдыхал в него жизнь.
Свой, по-настоящему, детский восторг, когда у него все получилось, и его новая игрушка открыла глаза.
Потом снова смазанные сполохи.
А вот, удивительно отчетливо, он вспомнил потоп и старика Ноя. Тогда весь его мир заболел какой-то непонятной болезнью, вирусом, как сейчас говорят, что безжалостно выкашивал целые деревни. Даже он ничего не мог с этим поделать. Он велел собраться еще здоровым людям на большой лодке и смыл всю эту дрянь. Можно сказать – провел дезинфекцию. Они с Ноем отлично тогда коротали вечера за шахматами.