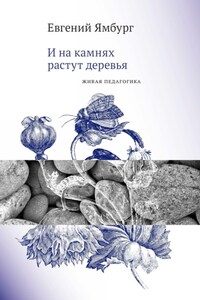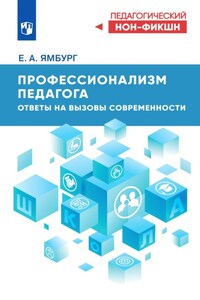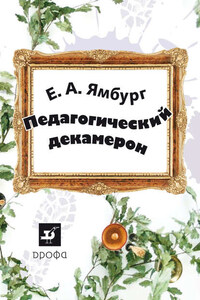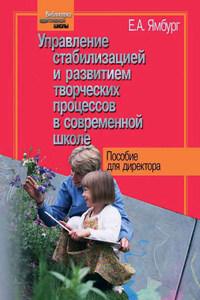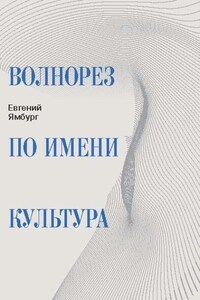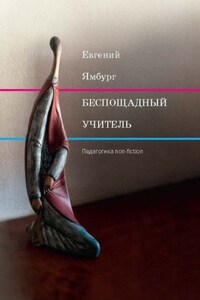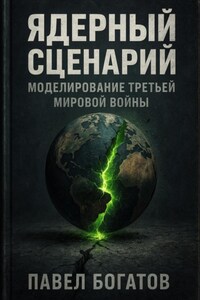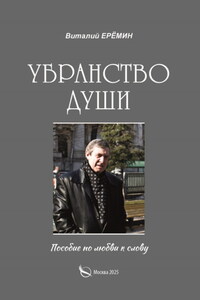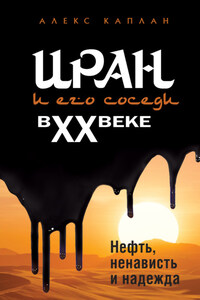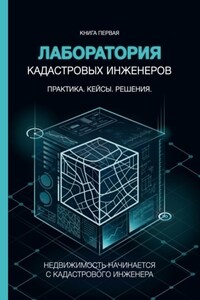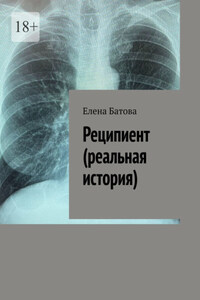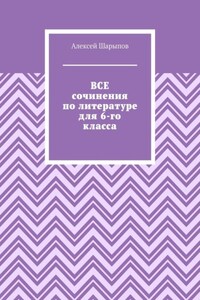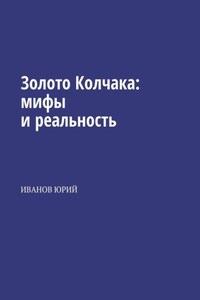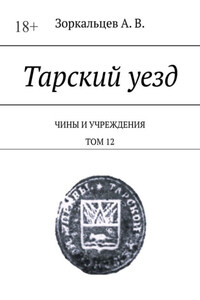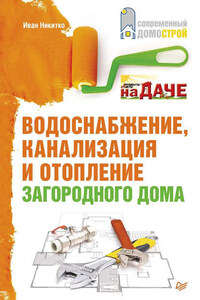Эта книга издается в юбилейный год: ровно восемьдесят лет назад была создана Российская академия образования. Дата ее основания – 6 октября 1943 года – вызывает изумление. Совсем недавно отгремела Курская битва, и, хотя наступил коренной перелом в Великой Отечественной войне, впереди было еще полтора года кровопролитных боев. Почему же в этих обстоятельствах правительство озаботилось проблемами развития педагогической науки и практики? Парадокс, да и только! Но, как выясняется, в отечестве нашем таких парадоксов более чем достаточно. Увы, педагогика развивалась у нас не благодаря, а вопреки обстоятельствам жизни. Само по себе рассмотрение этого феномена поучительно. Но дело не только в этом.
Однажды в мае, во время, «когда над землею бушует весна» (Б. Окуджава), я наблюдал за тем, как ученики приводят в порядок территорию школы. Садовыми ножницами они подстригали траву, которая пробилась сквозь асфальт и брусчатку на площади перед зданием, в центре которой стоит памятник Булату Окуджаве (он когда-то приезжал к нам в школу, а вернулся снова уже в виде памятника). Эта привычная на первый взгляд картина навела меня на размышления, которые легли в основу этой книги.
Живое всегда рано или поздно пробивается сквозь бюрократический асфальт, серый обезличенный бетон или державный гранит. Свидетельством этого служат березы, вырастающие на куполах церквей, разрушенных в годы безбожной власти. Об этом же, кстати, рассказывает и замечательный анимационный фильм Гарри Бардина «Слушая Бетховена».
Сказанное в равной мере относится к науке и к искусству, а также к педагогике, которая одновременно является и наукой, и искусством. Увы, история нашего отечества знает бесчисленное количество примеров того, как самые передовые открытия в области педагогической теории и замечательные практические достижения оборачивались для их авторов гонениями, потерей любимой работы, облыжными обвинениями со стороны завистников – людей недалеких, с тусклыми душами, но обладающих, как мы бы сегодня сказали, административным ресурсом.
Спустя годы (иногда при жизни авторов, но чаще после их смерти) живая педагогика пробивала себе дорогу и прочно входила в сокровищницу отечественной мысли. Но немедленно подвергалась новой опасности – угрозе мумификации. Те же люди с тусклыми душами делали все, чтобы разъять живую педагогику, как труп, превратив в мертвые разделы и параграфы на страницах учебников, в циркуляры с распоряжениями и инструкциями вышестоящих инстанций.
Тем временем отечественные открытия становились мировым достоянием и уже в этом якобы новом качестве возвращались к нам же в красивой заграничной упаковке и принимались к сведению. Увы, чаще к сведению, а не к действию.
Например, как объяснить тот прискорбный факт, что двухсотлетие со дня рождения выдающегося педагога К. Д. Ушинского (1823–1871), которое недавно отмечали во всем мире, в России прошло почти незамеченным? Это событие не освещалось широко в СМИ, и, насколько мне известно, только в двух столичных педагогических университетах прошли научно-практические конференции и семинары, посвященные дальнейшему развитию теории и практики на основе подходов, выработанных нашим великим соотечественником.
Тем не менее основания для сдержанного оптимизма у меня все-таки есть. Дело в том, что сегодня мы живем в стеклянном доме. Сети интернета, опутавшие планету, позволяют ученым и практикам беспрепятственно общаться между собой в блогах и чатах. Так происходит своеобразная прокачка крови, во время которой она постоянно обогащается кислородом новых знаний. В такой благотворной питательной среде рождаются новые ученые.