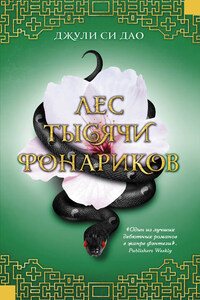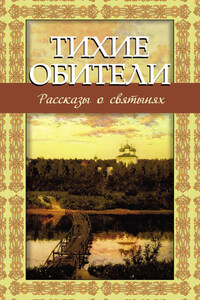«Интересно, хоть одна из этих женщин представляла свою смерть?» Эта мысль приходит мне в голову на скамье старого церковного кладбища. Мои юбки аккуратно подобраны, щиколотки скрещены, руки сложены на коленях. Для любого, кто разглядит мой силуэт сквозь пелену снегопада, я – истинная леди, а на меня смотрят даже глубоко скорбящие. Но в собственном сознании, скрытая от чужих взоров, я мертва и распластана под толщей земли, мои руки и ноги раскинуты в стороны, волосы спутаны, рот забит мерзлыми комьями. Земля заглатывает меня целиком, смакует вкус моего последнего теплого вздоха.
Это куда романтичнее, чем лежать в гробу в нашем фамильном склепе, хотя, вероятнее всего, меня ждет именно такая участь. В гробу, однако, мои юбки будут подобраны, щиколотки скрещены, руки сложены, а в чем смысл умирать так же, как жил? Если мне суждено отойти в объятья Смерти, я намерена сделать это в манере, какую в моем окружении едва ли сочтут достойной.
Ко мне приближаются две дамы в черных бумазейных платьях. Идут под руку, на обеих плотные креповые вуали, но ткань откинута и не закрывает лиц. Помню, мама́ жаловалась на жесткую материю, царапающую кожу, однако мирилась с неудобством и на людях носила вуаль, как полагается вдовам, так что смелость этих дам мне отрадна. Проходя мимо, обе приветствуют меня кивком, и я вижу, что они немногим старше Мины или меня самой. Пожалуй, даже напоминают нас пятью-шестью годами ранее. Одна – пухленькая, изящная, с шелковистыми светлыми волосами – похожа на Мину, другая – невысокая, худощавая и темноволосая, совсем как я. Они движутся с безупречной синхронностью, шаг за шагом, и доверительно склоняются друг к дружке, как сестры. Или как влюбленные.
Они останавливаются у могилы неподалеку, и светловолосая кладет на надгробие букет белых лилий. Лепестки тонут в снегу, где им суждена медленная гибель, а дамы, кивнув мне на прощание, удаляются. Я представляю, как они выходят за ворота, садятся в экипаж и едут назад к дому, который встречает их ярким, точно радостный взгляд, светом окон. Они снимут колючие вуали и присядут отдохнуть за чашечкой душистого чая, уже и не вспоминая о заснеженной могиле и обо мне, сидящей на скамейке.
С других женщин смерть слетает легко и быстро, на мне же задерживается, как аромат духов, впитывается в кожу, так что в конце концов каждый вдох служит мне напоминанием о неизбежности могилы. Освободиться из этих тисков я не могу, и когда, трепеща, встаю со скамейки, не уверена, хочу ли освобождения.
В своих черных шелковых юбках я пробираюсь сквозь места упокоения мертвых. Слышат ли они хруст снега под моими каблучками, завидуют ли мне? Я бы завидовала. Я бы возненавидела девчонку, что в сумерках крадется через мою могилу, словно призрак, ту, чья кожа на фоне черных как смоль волос кажется белее зимы, а глаза горят жизнью здесь, где жизнь неуместна. Я стараюсь ступать мягче, дабы сверх меры не раздражать обделенных.
В дальнем конце кладбища напротив кованых ворот стоят семь фамильных склепов из потрескавшегося гранита. Отделенные друг от друга плакучими тисовыми деревьями, они высятся над надгробиями, точно правители, обозревающие толпу черни. «Гладстоны» – высечено на первом склепе, «Тейлоры» – на втором. Я миную Кингов, Прайсов и Браунингов, и далее, следом за Шоу, вижу цель своего визита: седьмой склеп, украшенный каменными розами. По бокам от двери висят металлические фонари. Они не зажжены, однако фамилия «Вестенра», выведенная сверху, светится, будто бы озаренная пламенем.