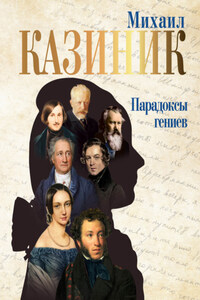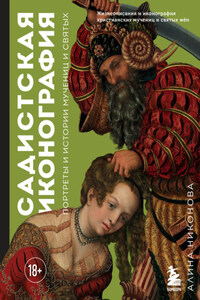Богословие открытого взгляда
Где кто-то идет – там кто-то глядит
и думает о нем.
И этот взгляд, как дупло, открыт,
и в том дупле свеча горит
и стоит подводный дом.
Ольга Седакова.
Тристан и Изольда
Открыто смотреть на мир – это труд. А еще труднее поделиться этим опытом – не рассказать о нем, а поделиться так, чтобы другие могли тоже его пережить.
В этом состоит невидимая работа творца. Осознанно или неосознанно, он открывает дверь другим. Открывать – не значит учить. Такой человек, приложив решающее усилие, отступает, чтобы дать другому пройти.
Рассказать о том, как в творчестве передается опыт открытого взгляда, что может пережить человек, решившийся пройти, – задача, выходящая за пределы искусствоведения. В книге, которую вы держите в руках, решение этой задачи возложено на богословие – не догматическое и не основное, а то, которое строится на личном опыте говорящего.
Тезис о том, что творчество – не только духовное – граничит с богословием, вызывает недоверие у человека, навыкшего к традиционной религиозности. Зачем же тогда нужно откровение?
Не вдаваясь в вопрос о природе откровения, скажем одно: откровение, как и слова любви, не терпит рядом с собой других голосов. Оно нуждается в чувстве, способном различить шепот на площади, различить и не слышать ничего другого. Откровение нуждается в воспринимающем.
Работы Ольги Седаковой, собранные в этой книге, в первую очередь говорят о следующем: творчество делает человека – и творящего, и внимающего, и едва ли можно провести между ними очевидную черту – чувствительным к тому, чтобы принять откровение. Речь не идет о том, что человек обязывается его принять и тем более ждать. Обретя эту чувствительность, он получает возможность встретить новое, которую вправе не реализовать. Это опыт самопознания, открывающий человеку не то, каков он, а то, каким он может стать.
Момент этого самопознания Ольга Седакова описала в докладе «Поэзия и антропология». Свой виртуозный анализ стихотворения Мандельштама «Флейты греческой тэта и йота», где поэт скользит по границе слова, бессловесия и молчания, Ольга Седакова завершает тем, что делает читателя свидетелем момента обретения чувствительности, оставляет этот момент застывшим. Она говорит об «опыте человека невероятного». И этот опыт состоит не столько в обретении «неведомого себя» (этого было бы мало), сколько в готовности исчезнуть – «на пороге, в начале, в обещании чего-то совершенно иного, что он узнает при этом как предельно родное»[1].
Исчезнуть – значит отказаться от привычных предпосылок, которыми человек определяет мир заранее. Полностью стать зрением и слухом вместо того, чтобы засыпать воспринимаемый мир потоком своих мыслей, и через это найти то, чего не искал, чего и не стал бы искать в привычном.
Такой опыт описан в христианской богословской традиции. Его принято называть естественным созерцанием. Здесь в наших руках оказывается связка между искусством и богословием[2]. Эта связка, однако, намечена пунктиром, потому что естественное созерцание, хотя и упоминается многократно и древними отцами Церкви, и современными исследователями их наследия, остается некой условностью: ее берут в расчет, но что конкретно за ней стоит, что воспринимает созерцающий, остается непроясненным.
Главные авторы греческой традиции, писавшие о естественном созерцании, – Евагрий Понтийский (^399) и Максим Исповедник (+662). Они развивали учение о логосах – божественных замыслах о мире. Первым среди христианских авторов о «семенных логосах» стал говорить Иустин Философ (t 165), восприняв это учение у стоиков и творчески его переработав. Евагрий и Максим писали о том, как логосы открываются человеку в созерцании. При этом возникает впечатление, что греческие мистики