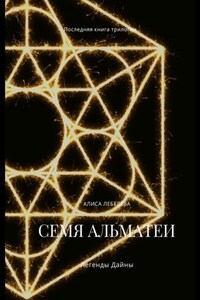… женщины были злы и красивы, а мужчины -
несчастны и полны глупых надежд. И крутилась,
крутилась жизнь, запутывалась все сильнее -
как дикая, странная игра под названием
Колыбель для кошки…
Курт Воннегут,
Колыбель для кошки
Все на нее пялились. Как обычно. И, как обычно, пялились в основном на грудь – маленькую, чумазую… да в любом случае вряд ли заслуживающую столь пристального интереса.
Особенно мерзкий взгляд был у рябого верзилы в проклепанном кожаном доспехе, и она мысленно пообещала выцарапать бесстыжему глаза, если не отвернется.
Не отвернулся.
Птица сердито взъерошила перья и клюнула Кочевника. Несильно. Только чтобы привлечь внимание.
– Ты не мог бы сшить мне попонку? – спросила, когда тот обернулся.
– Сшить?!
– Попонку, – кивнула она. – Все на меня пялятся. Просто ужас. А вот если бы…
– Ты – Хан-Гароди, рожденная силой огня. Само собой, все на тебя пялятся. Не бери в голову.
– Но…
Много ли радости быть говорящей птицей, если тебя не слушают?
И как втолковать ему, что в попонке гораздо легче было бы сносить все эти взгляды, от которых перья становятся дыбом, а кожа зудит, словно по ней, щекоча, ползет мерзкая ядовитая многоножка? Взгляды, полные страха, злобы и похоти. Похоти! Хухэ Мунхэ Тэнгэри! Эти люди ни в чем не знают меры.
– Жареные осьминоги в чесночном соусе и овечьи ножки, тушеные с требухой! – весело пропел Трактирщик, выставляя перед Кочевником две полные, исходящие ароматным паром миски, и плоский сырный хлеб с хрустящей корочкой, и ворох зеленого лука, и кружку золотого, как солнечный день, яблочного вина.
Осьминоги. С овечьими ножками. «Ну, точно, – мысленно вздохнула Птица. – Ни в чем меры не знают».
Несмотря на поздний час (а, может, именно поэтому), трактир порта Южных Врат был полон, и Кочевнику с его Птицей не нашлось другого места, кроме как у самой стойки. Да и этого бы не нашлось, если бы Трактирщик не окликнул диковатого с виду замухрышку, маявшегося у входа, ошибочно решив, что тот не только голоден, но и напуган.
На самом деле, Кочевник просто считал любое помещение о четырех стенах тесным, душным и малопригодным даже и для овец. Загнать его в подобное место мог разве что голод (или нытье Птицы). Ей же, напротив, все здесь нравилось: и тяжелые полукруглые своды, похожие на перевернутую каменную чашу, и выскобленные чуть не добела столы, и запахи – чеснока, пряных трав, жареной рыбы, сидра – и гул голосов, неумолчный, как морской прибой, там, снаружи. Да, все здесь было ей по душе.
Вот если бы еще не эти взгляды.
– Не желаете ли отведать рыбы, дивная госпожа моя? Морских ежей? Мидий? Креветок? – спросил Трактирщик, а Птица, немного смутившись, ответила:
– По правде говоря, не особо, ахай. Я змей люблю, – она вскинула на него пронзительно-ясные, цвета полуденного солнца глаза и пояснила: – Ну, в смысле, есть люблю, а так – нет. А! И еще мышей. Мыши тоже, скажу я вам, очень вкусные!
– Мыши? – Трактирщик озадаченно потер затылок. – Нижайше прошу прощения, дивная госпожа моя, но не думаю, что здесь найдется хоть одна. Я стараюсь содержать трактир в чистоте.
Он выглядел искренне огорченным, и Птица распушила перья, кокетливо склонив голову. Она ценила учтивость, пожалуй, больше доблести и даже честности. Учтивость же человека опасного и сильного была приятна вдвойне.
Бритоголовый, как борец или наемник, с могучей шеей и тяжелыми предплечьями, он походил на обломок скалы, сошедший с лавиной, а, может, упавший с неба. Все платье его составляли короткий жилет тисненой кожи и холщовые штаны. Никакого оружия при нем не было. Да и зачем?
Он сам был оружие.
Дюжее медово-смуглое тело покрывали магические письмена, но по шрамам можно было прочесть куда больше – о тех горестях, что претерпел он, и бедах, что натворил. Птица могла заглянуть в прошлое его и в будущее, в его сны и мысли. Увидеть кровавый отблеск пламени на клинках. Услышать воинственные крики и стоны боли, визг боевых коней и разбойничий шепот во тьме. Но учтивость этого не позволяла, а учтивость она ценила почти превыше всего.