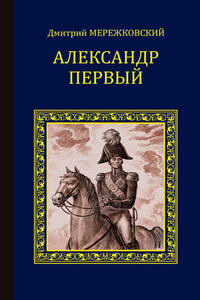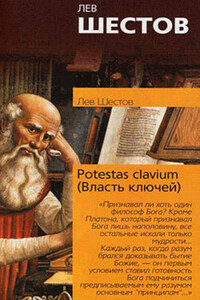Странная книга: ее нельзя прочесть; сколько ни читай, все кажется, не дочитал, или что-то забыл, чего-то не понял; а перечитаешь, – опять то же; и так без конца. Как ночное небо: чем больше смотришь, тем больше звезд.
Умный и глупый, ученый и невежда, верующий и неверующий, – кто только читал эту книгу – жил ею (а иначе не прочтешь), тот с этим согласится, по крайней мере, в тайне совести; и все тотчас поймут, что речь идет здесь не об одной из человеческих книг, ни даже о единственной, Божественной, ни даже о всем Новом Завете, а только о Евангелии.
«О, чудо чудес, удивление бесконечное! Ничего нельзя сказать, ничего помыслить нельзя, что превзошло бы Евангелие; в мире нет ничего, с чем можно бы его сравнить».[1] Это говорит великий гностик II века, Маркион, а вот что говорит средний католик-иезуит XX века: «Евангелие стоит не рядом, ни даже выше всех человеческих книг, а вне их: оно совсем иной природы».[2] Да, иной: книга эта отличается от всех других книг больше, чем от всех других металлов – радий, или от всех других огней – молния, как бы даже и не «Книга» вовсе, а то, для чего у нас нет имени.
НОВЫЙ ЗАВЕТ
Господа нашего
Иисуса Христа
В русском переводе
Санкт-Петербург, 1890
Маленькая, в 32-ю долю листа, в черном кожаном переплете, книжечка, 626 страниц, в два столбца мелкой печати. Судя по надписи пером на предзаглавном листке: «1902», она у меня, до нынешнего 1932 года, – 30 лет. Я ее читаю каждый день, и буду читать, пока видят глаза, при всех, от солнца и сердца идущих светах, в самые яркие дни и в самые темные ночи; счастливый и несчастный, больной и здоровый, верующий и неверующий, чувствующий и бесчувственный. И кажется, всегда читаю новое, неизвестное, и никогда не прочту, не узнаю до конца; только краем глаза вижу, краем сердца чувствую, а если бы совсем, – что тогда?
Надпись на переплете: «Новый Завет», стерлась так, что едва можно прочесть; золотой обрез потускнел; бумага пожелтела; кожа переплета истлела, корешок отстал, листки рассыпаются и кое-где тоже истлели, по краям истерлись, по углам свернулись в трубочку. Надо бы отдать переплести заново, да жалко и, правду скажу, даже на несколько дней расстаться с книжечкой страшно.
Так же как я, человек, – зачитало ее человечество, и, может быть, так же скажет, как я: «что положить со мною в гроб? Ее. С чем я встану из гроба? С нею. Что я делал на земле? Ее читал». Это страшно много для человека и, может быть, для всего человечества, а для самой Книги – страшно мало.
Что вы говорите Мне: «Господи! Господи!» и не делаете того, что Я говорю? (Лк. 6, 46).
И еще сильнее, страшнее, в «незаписанном», agraphon, не вошедшем в Евангелие, неизвестном слове Иисуса Неизвестного:
Если вы со Мною одно,
и на груди Моей возлежите,
но слов Моих не исполняете,
Я отвергну вас.[3]
Это значит: нельзя прочесть Евангелие, не делая того, что в нем сказано. А кто из нас делает? Вот почему это самая нечитаемая из книг, самая неизвестная.
Мир, как он есть, и эта Книга не могут быть вместе. Он или она: миру надо не быть тем, что он есть, или этой Книге исчезнуть из мира.
Мир проглотил ее, как здоровый глотает яд, или больной – лекарство, и борется с нею, чтобы принять ее в себя, или извергнуть навсегда. Борется двадцать веков, а последние три века – так, что и слепому видно: им вместе не быть; или этой Книге, или этому миру конец.
Слепо читают люди Евангелие, потому что привычно. В лучшем случае, думаю: «Галилейская идиллия, второй неудавшийся рай, божественно-прекрасная мечта земли о небе; но если исполнить ее, то все полетит к черту». Страшно думать так? Нет, привычно.