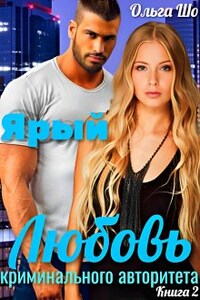Посвящается Мэри Кэрис, моей маленькой богине
В июле 1610 года самый известный художник Италии Микеланджело Меризи, известный под именем Караваджо, бесследно исчез. Нажив немало врагов, в последние годы он скрывался от правосудия: за его голову объявили награду. Говорили, будто он умер от лихорадки.
Тело его так и не нашли.
Караваджо никогда не подписывал своих полотен.
Он сделал это лишь однажды – на картине «Усекновение главы Иоанна Предтечи», той же краской, что кровь Пророка, вывел подпись рыцаря и монаха: «брат Микеланджело».
Смерть его была столь же скверной, как и жизнь.
Джованни Бальоне (1566–1643) – о Караваджо («Жизнь художников, скульпторов и архитекторов», 1642)
Ах, умереть, любя, – конец чудесный!
Петрарка (1304–1374), сонет 140 (перевод Е. Солоновича)
Микеланджело Меризи (также Караваджо, в честь его родного города), художник
Маддалена (Лена) Антоньетти, натурщица Караваджо
Джованни Бальоне, художник
Шипионе Боргезе, кардинал, племянник папы Павла V
Доменика (Меника) Кальви, куртизанка
Костанца Колонна, маркиза Караваджо
Леонетто делла Корбара, инквизитор Мальты
Онорио Лонги, архитектор
Антонио Мартелли, мальтийский рыцарь
Филлида Меландрони, куртизанка
Марио Миннити, художник
Франческо дель Монте, кардинал, покровитель Караваджо
Гаспаре Муртола, поэт
Просперо Орси, художник
Джованни Роэро, дворянин из Пьемонта, мальтийский рыцарь
Фабрицио Сфорца-Колонна, сын Костанцы, мальтийский рыцарь
Рануччо Томассони, головорез, сутенер
Джованни-Франческо Томассони, старший брат Рануччо
Алоф де Виньякур, великий магистр Мальтийского ордена
Пруденца Дзаккия, куртизанка
Пролог
Сокровенное
Город Караваджо, Миланское герцогство
1577
Он сидел в кромешной тьме. «Смотри, – говорил он себе. – Смотри, как с искаженным от боли лицом, весь в поту, он резко клонится вперед, прижимая руками живот и вонзая почерневшие ногти в собственную плоть, всем телом сотрясаясь от рвотных спазмов». Простыни источали ужасный смрад, но мальчик оставался сидеть на кровати – не хотел отходить от больного, пах и подмышки которого покрывали гнойные язвы бубонной чумы. Это был его отец, и он умирал.
По другую сторону постели лежал дед мальчика. Он давился каждым глотком воздуха, клокочущего в узкой, лихорадочно вздымавшейся груди. Седая борода насквозь пропиталась влагой. Меж ребрами поблескивали ручейки пота. Воспаленные бубоны пиявками распирали подмышки. Матрас пропитала кровавая моча. Лицо, освещенное болезненной желтизны солнечным лучом, проникшим сквозь трещину ставни, дрожало от стыда.
Голос отца – неужто забудется? «Микеле, зачем ты здесь?» Нет, слова останутся в памяти навсегда. Но вот вспомнит ли он, как говорил отец? Его бас, обычно мягкий и теплый, но сейчас иссушенный в адской печи Черной смерти, звучал как хрип человека, давящегося песком: «Зачем?»
«Я не могу бросить тебя, папа», – ответил он. Позже он не раз вспомнит эти слова, так похожие на рефрен какой-то неотвязной мелодии. Одинокий и ранимый, он будет слышать их в своих мыслях – но они никогда больше не слетят с его губ. Когда он станет взрослым, ни в его голосе, ни в словах никакой наивности уже не останется.
– Уходи, мальчик мой. Ты заразишься… – скорчившись от боли, задыхаясь и дрожа, отец перекатился на бок.
В воздухе висел едкий запах извести и серы: мать уверяла, что это прогонит болезнь. Щипало нос и легкие, мальчик чихнул. Отец поднял голову – очень быстро, как никогда с тех пор, как его поразил недуг. Черты исказились ужасом, он знал, что чихание – первый признак болезни. Сын слабо улыбнулся, чтобы его успокоить.