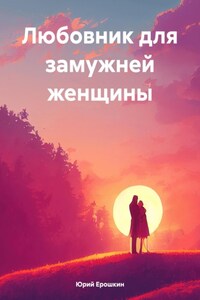До закрытия бара осталось с минут тридцать. Бармен уже потихоньку стреляет глазами в посетителей – не злобно, но с вопросом: «ещё по одной? Или узнаем, что у вас за душой?». Хороший бармен ретранслирует настроение гостя, проводя через фильтр промилле. Для кого-то бармен психолог, для кого-то друг или Бог, а, может, и вовсе всё вместе. Этот бармен был, что надо: его взгляд не виден обычному гостю – микросекунда от полировки бокала и обратно – натренированные глубокие глаза резче прыжка хищной кошки. Иногда он смотрит через стекло, но в баре уже так темно, что лишь неоновые красные надписи размыто отражаются в блестящем бокале. Они гласят: «Redrum», что, как не сложно догадаться, является анаграммой на славное слово «Murder», обозначающее убийство. К сожалению, в этом заведении угрозы смерти мне принимать не приходилось, но в парке культуры и отдыха, что, конечно, иронично, если память меня не подводит, не меньше пяти раз.
–Стеф, а можно ещё один вопрос?
Мой друг Жан задал мне вопрос. Его глаза немного слипались, но в них то и дело проскакивал энергичный огонёк: день был тяжелый, все устали, но некие остаточные силы поднимались, выбитые пивной газацией. Этой ночью спать мы явно будем крепче некуда, но выспаться не удастся. Общеизвестный факт: от алкоголя, конечно, уснуть легче, но выспаться куда сложнее. Однако, мне вспоминается один парень лет двадцати восьми – он ловко справился с долгосрочными последствиями алкоголизма, хотя пил всегда будто не в себя: хитрец умер от разрыва сердца, не дожив до тридцати.
– Конечно.
– Мне стало интересно, исходя из беседы, какую ты видишь социальную систему во главе всех остальных? Что нужно миру?
– Миру нужна анархия, – с лицом бывалого морского волка я наблюдаю за огоньком чьей-то зажигалки, мерцающей за окном, словно вижу в ней далёкий призрак поросшего мхом маяка.
Я отвечаю, не раздумывая: эта тема для меня давно была решена – консерватором я себя не считал, да и ригидностью не страдал – просто в данный момент такой ответ содержало моё сердце. Громкая музыка в этом баре на улице Некрасова перебивала слегка мои слова. Мой друг, правда, слышал их вполне разборчиво, и назойливая музыка ему в том никак не мешала – не в этом было дело. После полутора стакана стаута мысли стали подобны пугливым маленьким птичками, засевшим подоле кормушки: красивые, манящие и такие юркие! Не дай Бог шевельнёшься – пиши пропало. Я удерживал их в голове из последних сил, тщательно жмурясь и ни в коем случае не шевеля глазами. Вдруг, кто-то или что-то меня отвлечёт? Тогда и беседе конец, а ведь беседа была на интересную тему, что само по себе уже редкость. Хорошие разговоры попали в Красную книгу: если они есть, то без слёз не посмотреть, а, если их нет, то, собственно говоря, их и нет – ни памятника, ни монумента – простая хладная история.
– Хм-м-м. А почему именно анархия? Не тоталитарный строй, не демократический? – задал мне вопрос Жан.
– Нет, – сказал я как отрезал. – Анархия – это не костры и не грабежи, не насилие и власть сильных. Хочешь, дай кому-нибудь, извиняюсь, по роже, хочешь, пиши стихи? Так, что ли? Не-е-е-т, друг мой, это уже беспредел и, в общем-то, свинство редкостное. Анархия настоящая, то есть сама её идея гласит совсем иначе: каждый реализуется так, как ему нравится и никто ему не в праве за это предъявить обвинения какой-либо юридической, моральной, поэтической, метафорической или иной формы. Конечно, с учётом, что кроме чувственного дискомфорта ты ничего более не испытаешь от такого рода чужой реализации. В новом мире человеку необходимо привыкнуть, что он здесь не один, а они – то есть все остальные, ой как отличаются, и ничего с этим не поделать к тривиальным сожалению или счастью. Толерантность – когда-то слово сильное, но ставшее слабым.