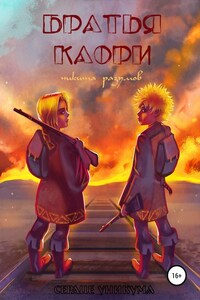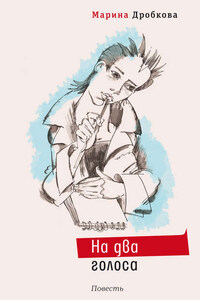3 февраля 2015 года
19:46
Как обычно это бывает, умершие родственники вспоминаются как раз некстати: когда ты едешь в транспорте, или бежишь по дороге, или ещё что-нибудь. От этого всегда худо. А вот когда у тебя ещё и психика неустойчивая – тогда вообще кошмар-кошмар начинается. Смеешься себе, и тут – бац, – и ревёшь, как девочка маленькая.
Все начинают волноваться, спрашивают, не вызвать ли скорую (куда, в психушку?), дать ли воды. А ты стоишь себе, ревешь, слезы сами предательски текут из глаз, будто бы им кто-то разрешал. И все пуще прежнего начинают заводить темы о мамах-папах, какие они настойки пили при депрессиях, ведь они не знают, что ревешь ты сейчас именно из-за этого. Не из-за настоек – родителей.
Итак, знакомьтесь: побитая жизнью, не умеющая рисовать брови и стрелки в восемнадцать с небольшим, девушка по имени Никто. Ха-ха, шутка.
Хотя, нет, дайте-ка подумать: не шутка. И совсем не смешно.
Последний месяц своей жизни, когда у меня умерла моя последняя ниточка, не дающая грохнуться в депрессию, я ощущаю себя никем. Каким-то пустым пятном, пожирающей бездной, ну или даже Чёрной Дырой с не менее черными кругами под глазами.
Итак, давайте же приступим к выводам: если ты одинок, выжить и не свихнуться в этом мире почти невозможно. Крыша у тебя начинает ехать уже тогда, когда ты об этом даже не подозреваешь. Но потом, когда ты понимаешь, что что-то в твоей жизни не так – уже совсем поздно.
(Хотя стоит признать, у каждого в этом мире кукушка едет в свою сторону, но все же. Понимать, что она еще на месте, немного лучше, чем понимать, что ты уже давно двинулся крышей).
Месяц назад я очнулась после двадцатичасовой операции на сердце, и единственное, что терзало меня в тот момент: не криво ли я нарисовала брови. А беспокоиться надо было совсем о другом.
Врачи как-то странно хмурились, снуя туда-сюда, звякали приборами и всем своим видом показывали, что я обречена. Но я вот – лежу, вяло машу руками, пытаясь подать отчаянные сигналы для того, чтобы врачи наконец-то выдернули из моего рта эту странноватого вида трубку! Я дышу, дышу, я радуюсь, что я все еще торчу на этом свете, и что я скоро увижусь со своей тётушкой!
И врачи наперекор мне… ещё больше хмурятся, качают головой так, что кажется: ещё немного, и она отвалится.
И тут я понимаю, что начинает пахнуть паленым. Интересно, мне что-то сделали не то? Или пришили не там? Или забыли пришить? А они вообще пришивали?
Мысли начинают толкаться как бешеные. Хотя, да, они всегда были такими бешеными.
И наконец, вечером, когда меня переводят в палату, Кир скорбным голосом сообщает, что ночью моей тетушки не стало.
А потом происходит ещё одна череда событий, которая в буквальном смысле приводит меня к чёрному гробу.
И вот стою я у могилки, монашки бегают, как сумасшедшие, что-то причитают, кидают на меня полные боли взгляды, будто бы я один такой подросток, который потерял всех. Родителей, бабушку, которая скончалась от рака лёгких, да и дедушку следом: его сгубила болезнь под названием депрессия. Так сказать, чума двадцать первого века.
Продолжим! Кир, который стоит рядом, пытается не расклеиться окончательно и с силой кусает алую губу. Кровь стекает по его подбородку, капает на чёрный плащ. Он неловко оборачивается ко мне и, стирая остатки алой полосы, грустно улыбается и что-то говорит.
Не помню, что меня довело до грани: тонкая струйка крови на его лице или эта улыбка, но я взвыла, как посаженная на осиновый кол ведьма. В тот момент я отключилась. То есть, я и до этого момента была в отключке, но теперь мною завладело такое горе, что мне показалось – еще немного, и сердце не выдержит.
Кир снова раскудахтался и принялся меня утешать.