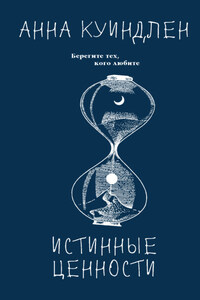Тюрьма – это не так плохо, как можно вообразить. Когда я говорю «тюрьма», то вовсе не имею в виду собственно тюрьму. Тюрьма – это такое место, которое вы можете видеть в старых кинолентах или документальных фильмах на государственном телевидении: все эти серые пространства со сторожевыми вышками по углам и колючей проволокой, закрученной петлями поверх высокой стены. Тюрьма – это где колотят ложками по прутьям решеток, затевают бунт во время прогулок в тюремном дворе и тащат самого тщедушного мальчишку-первоходка в душевую, пока охранник делает вид, будто не видит, бросают потом на произвол судьбы: пусть выбирается как знает, – и бледная кровь капает, смешивая малиновый и молочно-белый, по задней стороне его безволосых ляжек. И сумрачный взгляд его глаз навсегда остается обращенным внутрь.
По крайней мере, я всегда представляла тюрьму именно такой, но ничего подобного не наблюдалось в тюрьме округа Монтгомери. Тут имелось две комнатки: моя старая спальня на чердаке родительского дома была просторнее, чем они обе вместе взятые. Да, решетки здесь были, только закрывались они вручную, а не дистанционно, с бездушным электрическим клацаньем, этаким символом несокрушимости. Темница в стиле комедии Энди Гриффита[1], тюряга из шоу, скорее дешевая пьеса на летний сезон, чем Достоевский, узилище для загадочного незнакомца, наделенного дрожащим тенорком и прибывшего в город с кожаной сумой через плечо, в которой потом обнаруживается решающая улика.
Койки в два яруса, туалет и пол, покрытый пестрым линолеумом, который так напомнил мне коридор больницы в нашем городке, что я задумалась, не один ли и тот же подрядчик поработал. После того как за мной закрылась дверь камеры, полицейский, который привел меня сюда после того, как они взяли мои отпечатки и сфотографировали, бросил на меня сочувственный взгляд, потом ушел. Когда-то давно, в старших классах школы, мы с этим парнем вместе ходили на один и тот же курс «французского для начинающих»: ему предстояло с грехом пополам набрать баллы для посредственного аттестата, а мне – начать долгий и кропотливый труд, увенчавшийся при выпуске премией Французского института. Коридор поглотил звук удаляющихся шагов, после чего воцарилась пронзительная тишина.
С той стороны, где располагался полицейский диспетчерский пост, можно было слышать, как кто-то печатал на машинке, очень неумело, и время от времени – кваканье полицейской двусторонней радиосвязи. Сверху доносилось гудение: смутный, трудно поддающийся определению звук – наверное, от электропроводки, проложенной за звукоизолирующими панелями потолка. Над собой я видела трубки невыразительного дневного света.
Теперь, работая в больнице, я иногда поднимаю голову, и мне кажется, будто я снова вижу этот потолок, эти трубки, что я снова заперта в крошечной каморке. Подавляющее ощущение, но не сказать, что очень уж неприятное.
Сидя на койке с зажатыми между коленями руками, я испытывала лишь облегчение. «Карцер, – вертелось в моей голове. – Тюряга. Кутузка». В попытке нагнать на себя страху с помощью всех этих дешевых жаргонных словечек, которые слетали с омерзительных рыбьих губ Эдварда Дж. Робинсона, когда я смотрела «Позднее шоу» в салоне: погруженный в темноту дом, серо-голубой, точно акулья шкура, экран, отец и мать спят наверху. Вонючая тюрьма, думала я. Большой дом. Но одна мысль никак не желала меня покидать: «Я одна. Одна».
Я легла на койку, подложив обе ладони под щеку, и закрыла глаза, ожидая, что в моих ушах снова раздастся голос, крик о помощи: принести чашку чаю, стакан воды, сандвич, дать еще морфия! – но никто не заговорил; никому я больше не требовалась. И в моей душе воцарился мир, какого я не знала уже давно. А еще я была свободна. Свободна в тюрьме.