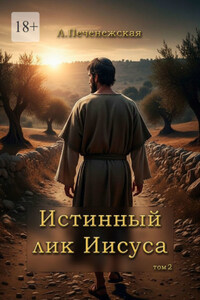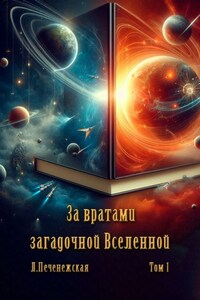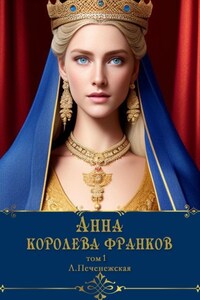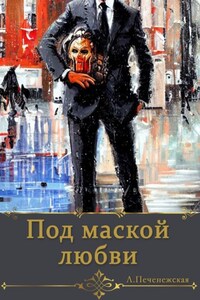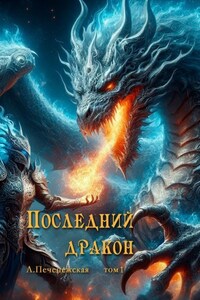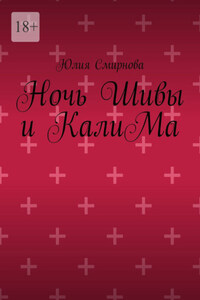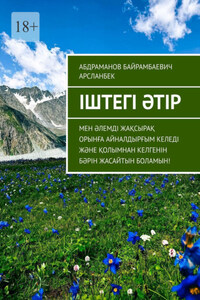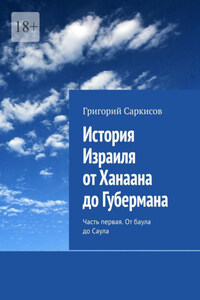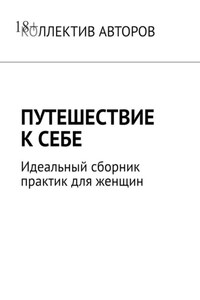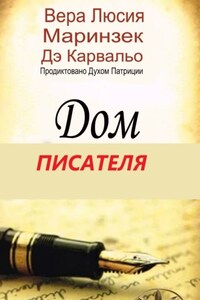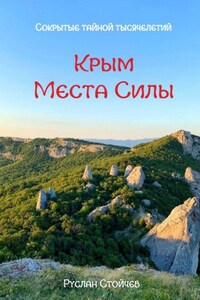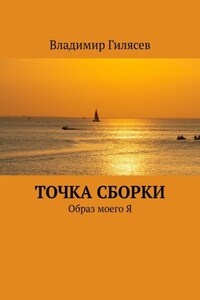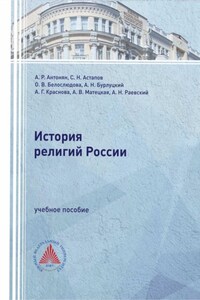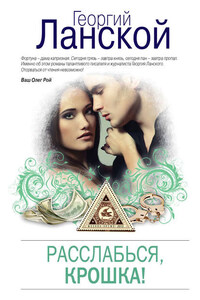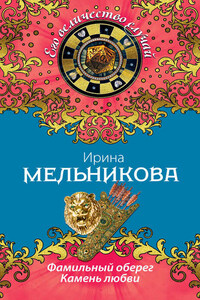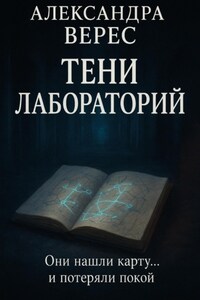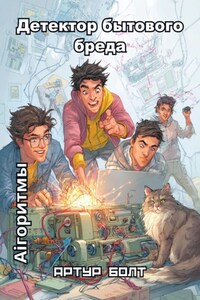Глава 1. Как корень из сухой земли…
В этой горной деревне тени от инжирных деревьев падали длиннее, чем день. Между домами извивались тропинки – не улицы, а следы шагов, выжженные временем. Изредка по ним проходили женщины с кувшинами, и только звук воды внутри напоминал, что время здесь хоть немного движется.
Аин Карем был укрыт зеленью: виноград, розмарин, колючие кусты граната росли у каменных оград и сбрасывали зрелые плоды прямо на дорогу. Здесь не кричали, а говорили вполголоса, даже на базаре. Летом воздух был терпким от кипарисов и пыли, зимой пахло дымом от печей, где пекли ячменные лепёшки и сушили инжир.
Деревня держалась на воде и памяти. Колодец у источника считался священным: женщины опускали туда шерстяные нити, и если вода затягивала узел, значит, молитва будет услышана. У каждой хижины был свой способ смотреть на небо – через проём между ветками, через щель в ставне, через испуганные глаза стариков.
Внизу шумел источник. Местные говорили, что он появился ещё при Иевусеях и с тех пор не пересыхал, даже когда всё остальное умирало. Над ним висела слива с грубым, перекрученным стволом. Дети, если бы они тут были, играли бы в её тени. Но в Аин Кареме детей было немного, и смеха слышно не было давно.
Весной цвели персики, горько пах шалфей, а в воздухе стояла та особая тишина, которая бывает лишь там, где никто больше ничего не ждёт. В такую тишину не вмешивается даже Бог.
Дом Захарии был чуть выше источника, на выступе скалы, крошившейся от старости. Камни, из которых он был сложен, за века научились хранить жар, как память: тускло, но упрямо. В нем было всего две комнатки.
Во дворе рос куст мирта да старый гранат, который почти не плодоносил, но весной выбрасывал пару рваных цветков. Под навесом висели пучки высушенных трав: чабрец, полынь, иногда лавр – их жгли, когда в доме стояла сырость. Вход в дом был оплетен виноградом.
Внутри было тесно, но чисто. В одной комнате стояла кровать с тонким покрывалом и железным светильником у изголовья, в другой – низкий стол, глиняная посуда, сундук с молитвенными свитками Захарии, да полка, где хранились сосуды с маслом, зёрнами и редкими вялеными фруктами. Вдоль стены – каменная лавка, на ней кувшин с водой и деревянная чаша. Запах в доме был устойчивый: пыль, масло, сухая трава и старая ткань.
Здесь жила семья древних кровей: Захария происходил из череды священников, служивших в Храме ещё со времён Садока. Тихий и сдержанный, он не любил говорить о вещах громко и считал, что служение должно быть незаметным, как дыхание. Он уходил в Иерусалим по установленным срокам и возвращался, неся на себе запах ладана и усталость храмовой тишины. Елисавета, его жена, была женщиной кроткой, но с внутренней волей. О её роде напоминали разве что старые молитвенные формулы, которые она всё ещё помнила наизусть, и походка, выпрямленная годами стояния в храме. Они прожили вместе больше тридцати лет без детей, но с молитвой, которая сначала была горячей, потом – упорной, а в последние годы – молчаливой. Их брак держался на ритуале и памяти, как те камни, что удерживали дом на склоне.
Елисавета была женщиной, которую жизнь обтесала до прочности. Она происходила из рода Аарона – того самого, чьё имя поколениями передавалось среди храмовых служителей. В её семье умели молчать перед Богом и долго стоять – не от усталости, а от веры. Это молчание она унаследовала вместе с прямой, настороженной осанкой и способностью терпеть не обиду, а пустоту.
Она не жаловалась, не жалела, не вела счёта годам – только хранила в себе странную, сухую ясность. Её лицо было тонким, с выражением, которое казалось мягким, но внутри него чувствовалась твёрдость как у коры, покрывшей дерево, пережившее все зимы. Серебро в волосах она не пыталась прятать, но каждый вечер аккуратно их расчёсывала, как будто это могло восстановить не молодость, а порядок.