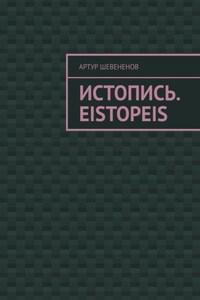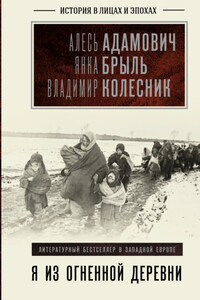Странности (не) должны быть странными?
Есть вещи, которые не могут не забавлять. В детстве, когда читал «Сто рассказов из русской истории», поражала «крамольная» догадка, озвучивать которую тогда, в пору позднереваншистского рывка переразвитого социализма (несомненно обреченного в силу того, что руководили рывком и осуществляли его беспринципные карьеристы, инвариантно прилаживавшиеся к любым режимам и вперед всех выкрикивавшие лозунги, всякий раз новые), было бы неосмотрительно: оказывается, «народ» не всегда прав, а случаются в его среде и вороватые, и прочие нечистые на руку, и вовсе глупые да бессовестные. Иначе отчего Петр Великий иной раз не церемонился с таковыми? Вот и Ленин как-то походя-впроброс именовал «массами» (это коробило изначально, годков с осьми; ан допускал, что лезть в путаные вопросы без знаний бывает рановато).
Разумеется, это, – как окажется позже, – скорее начальный, почти профанический или «профанный» уровень изучения, колеблющийся меж наивной эмпиристской феноменологией и логицизмом-аналитизмом. Существуют уровни и повыше: «сакральные». Которые, во избежание сваливания в петлю возврата к изжитому да ветхому, не должны редуцироваться до «сакраментального». Как ни грустен факт исторической девальвации терминов – этой более пассивной, но не менее злобной и злободневной моде подмены и хищения имен. Но достичь полноты – этой связи меж связями, – возвращающей и простоту, ясность, еще предстоит. И путь не иначе как резидуален, с сущностью чего удобнее всего ознакомиться из тезоименной первокнижицы.
В пору первой юности озадачивало иное. Так, дело было уж даже не в том, что народ готов был лить слезы, останавливая работу в поле и у станка, наблюдая за перипетиями судеб выдуманных персонажей стран далеких (географически, а впрочем – не душевно, когда эмпатия еще теплилась в этом мире и большой Стране), при этом почти равнодушно наблюдая за крушение собственных: лада, судьбы, «портфеля» экономики и «матрицы» общественных институтов, самой области выбора. Занятнее было другое: то, как русский язык продолжал еще жить невольными тщаниями националистов Прибалтики и сепаратистов Закавказья, террористов с Ближнего Востока и их инструкторов из-за океана, поставивших на наиболее вульгарную реализацию римского имперского союзничества и максимы же имперской экспансии (причем сдабривая количественное качественным, географию – институтами и языком): «divide et impera». А именно, ставку сделали на «бжезинщину» в смысле центробежных, антиимперских сил вне западного доминиона как средство укрепления центростремительности внутри такового. Национализм, цепная реакция дробления на «национальные» квазигосударства, диссоциативные (противительно-инертные) идентичности и «идеи», вложенные в уста необязательных интеллигентов-реакционеров (кстати сказать, скорее обласканных советской властью, с коей боролись, нежели притесняемых; иначе неясно, как объяснить наличие высших ученых званий вдобавок к научным степеням у тех же Гамсахурдиа и Закаева), явились тем механизмом и катализатором притупления критического мышления, что замещалось агрессивно-крикливым критиканством с непроверяемыми из сегодня посулами в отношении того, что будет завтра, стоит лишь поменять – даже разрушить – игру.