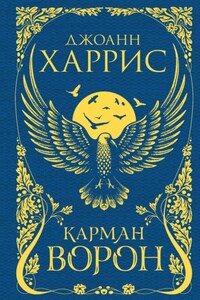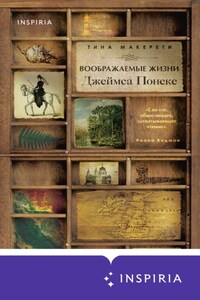На сцене моя мать раскрывала свою истинную сущность. Я видела, как в считаные мгновения она преображается, как между ней и зрительным залом постепенно возникает близость. Посреди представления она снимала рубашку – по-мужски непринужденно, как можно было бы снять носки. Потом приподнимала обеими руками тяжелую гриву рыжих кудрей, обнажая длинную шею и расставляя локти, чтобы подчеркнуть линию плеч. Она могла перевоплотиться в кого угодно. К зрителям своих моноспектаклей она обращалась как к старому другу. Я видела, какое воздействие она оказывает на них: они подавались вперед, широко раскрыв глаза, впивая ее всей кожей. Эту фамильярность, дающуюся ей без усилий, она переносила и в обычную жизнь. С незнакомыми людьми она была жизнерадостна и мила. Она ослепляла. Иными словами, моя мать была настоящей актрисой.
В театр она пришла еще подростком, но главную роль, после которой ее карьера пошла в гору, получила только в девяностые, когда мне едва-едва исполнилось пять. Потом начались спектакли-монологи. Постановка, сделавшая ее знаменитой, называлась “Мать” – короткая, энергичная пьеса, длившаяся час двадцать без перерыва. Действующих лиц в ней было мало: муж, жена – ее она как раз и играла, – трое их маленьких детей и отец мужа. Завершался спектакль долгой сценой, в которой мать топит детей в ванне. Ничто в образе матери как будто не предвещало такого финала, хотя вся пьеса была проникнута смутной тревогой, перемежаемой всплесками легкомысленного веселья и нежности. В детстве никто мне не говорил, что моя мать играет женщину, убивающую собственных детей, но я знала, что она и за пределами сцены часто не выходит из роли.
Дома она была для меня чужой. Мне хотелось, чтобы она превратилась в ту, кем была изначально, как будто она могла снова стать собой. Она была вывернута наизнанку, внутренней стороной напоказ. Но я предпочитала видеть ее лицевую сторону, видеть в ней мать в традиционном понимании.
Я хотела гордиться матерью, но чаще всего она меня раздражала. То, чем восхищались в ней остальные, мне казалось преувеличенным и наигранным.
– Так она же играет, – сказала Матильда, когда я ей пожаловалась.
– Но я хочу, чтобы меня трогала ее игра. Я хочу аплодировать стоя вместе со всеми.
– А какого подростка может растрогать собственная мать?
– Хорошего.
– Нам нравится, что ты не хорошая, – сказал Тео.
Тео и Матильда были ее ближайшими друзьями. Матильда, известный дизайнер, работала в театре и специализировалась на вышивке. Она подгоняла мою одежду по фигуре и шила мне платья на выход. Это она придумала костюмы для “Матери”. Тео, ее муж, был танцовщиком. Моя мать в молодости тоже занималась танцами, и поэтому они мгновенно нашли общий язык.
Со мной мать вполне продуманно держала дистанцию. Помню, как я стучалась в закрытую дверь ее комнаты. “Maman”, – звала я, думая, что она не слышит стука. В какой-то момент я перешла на Анук – в надежде, что на имя она будет отзываться охотнее. Со временем произносить “Maman” становилось все трудней, мягкость согласных входила в противоречие с отчужденностью, которую я так часто испытывала в ее обществе. Слово “Анук”, напротив, заканчивалось резким, угловатым звуком, и, выкрикивая это имя, я как будто сталкивала ее со скалы.
Ее комната была меньше моей, а в щель между хлипкой деревянной дверью и полом можно было просунуть пальцы ноги. Помню, как из-за двери раздавался ее голос, снова и снова повторявший одну и ту же реплику. “Надо было вызволить тебя из этого мрачного места и осыпать поцелуями”.