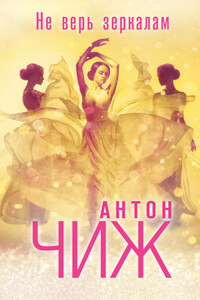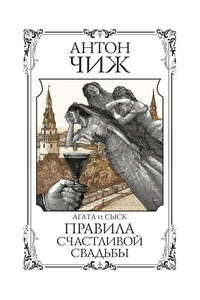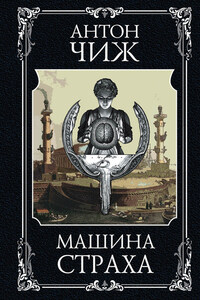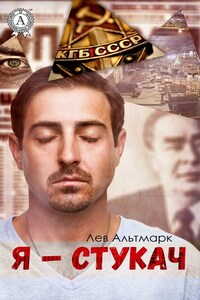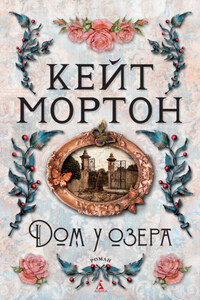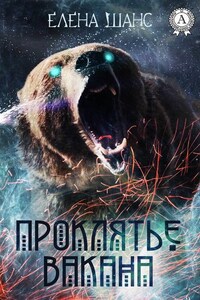Февраль 1901-го грозил тревогами. Множество знамений открылось в тот год. На папертях юродивые стращали народ последними днями. Падая в конвульсиях, с кровавой пеной на губах, они грозили неизбежной карой за грехи, чаша которых уже переполнена. Рыдали дети на руках матерей, а сами матери, напуганные неотвратимым, истово крестились и просили в молитвах отвести беду. Волнение паствы было столь велико, что священники не могли ее успокоить.
В обществе шептались, что император и императрица съездили в Гатчинский дворец, чтобы вскрыть по прошествии ста лет некое тайное послание, оставленное в запечатанном ларце еще во времена императора Павла I. И что, якобы прочитав пророчество, император уехал в мрачном расположении духа, а императрица не смогла сдержать слез. Что было начертано в том письме, осталось доподлинно не известно, но ничего хорошего династии грядущее не сулило.
В стране глухо, как в закипающем котле, зажатом ржавыми винтами, поднимались страшные силы, способные сорвать не только крышку, но и разорвать сам котел. То там, то здесь горели помещичьи усадьбы, бастовали рабочие заводов, фабрик и рудников. Студенты выходили на демонстрации, которые разгонялись с примерной жестокостью. Идейный студент Карпович выстрелил и смертельно ранил добрейшего министра народного просвещения Боголепова. Со стороны против России назревал опасный союз Англии, Северо-Американских Штатов и Японии, озабоченной проникновением в Маньчжурию.
А в небе, словно указуя на неотвратимые беды, явилось знамение, куда страшней и зримее прочих. Луна из серебряной вдруг окрасилась в багряно-красный, как будто умылась кровью. И хоть астрономы из сил выбились, объясняя в популярных заметках, что ничего, кроме оптического обмана и преломления света, в этом нет и быть не может, публика, и читающая, и безграмотная, была едино напугана столь явным пророчеством возможных потрясений.
Настал Великий пост. Мясные лавки закрылись до Пасхи, императорские театры не давали представлений, так что публика, жаждавшая зрелищ, находила отдушину во французской опере и частных театрах. По обычаю февраля погода угощала столицу империи прокисшей зимой. Лужи грязного снега, сырой ветер и распутица окончательно поглотили мостовые и немощеные улицы города.
В Нарвской части столицы грязь была обильнее, чем на Невском проспекте. Здесь, вокруг Обводного канала, плотно встали фабрики, рабочий люд которых проживал неподалеку в заводских и доходных домах. Окраину убирали из рук вон плохо, а городовые, обязанные следить за всяческим порядком на улицах, ленились гонять дворников. Занятие это было бесполезным: сколько ни ругайся, грязи меньше не станет, а начальство сюда все равно не заглядывает. В попытке найти компромисс между лужами и служебным долгом дворники довели местность до неприличного вида.
Местные жители к такому порядку, а вернее – беспорядку давно привыкли. После трудовой смены обращать внимание, а тем более писать жалобы мало кому пришло бы на ум. Обитатели Обводного отдавали фабрикам по десять часов в день, а по дороге домой – еще парочку трактирам, потому, добравшись до своего угла, им хватало сил лишь на то, чтобы упасть бездыханным телом в чем был: в сапогах и налипшей грязи.
К восьми вечера улицы Обводного пустели. Кто не прилег в канаве или у входа в трактир, спали в своих каморках глухим сном до заводского гудка, поднимавшего рабочий люд в пять утра. Да и гулять с темнотой по Обводному не всяк бы решился. Получить финкой в живот или обухом по затылку было так же просто, как упасть в канал. Убить или ограбить могли без всякого повода, а уж в день, когда выдавалось жалованье, тем более. Грабили не залетные, а все больше свои: те, кто днем трудился у станка, а вечером затыкал за голенище нож, выточенный на заводе, или молоток за пояс, прихваченный в мастерской. Разбой считался, в общем, такой же обычной и неизбежной частью жизни, как и грязь на улицах. Грабителем мог стать каждый, кому не хватало до получки или подружке на гостинец. Местных жителей кровавая луна пугала мало, да и некогда им было разглядывать небеса.