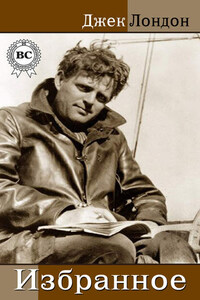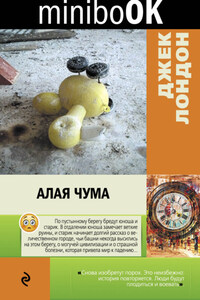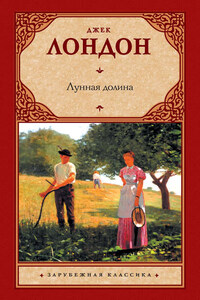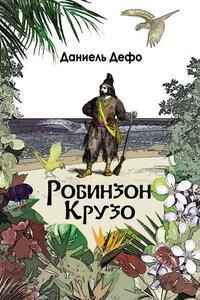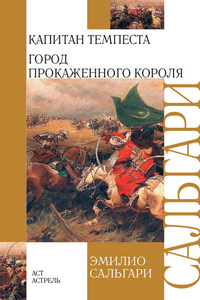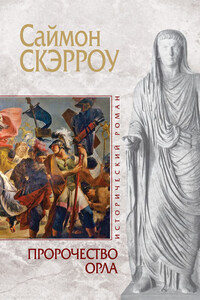Каркинес наконец-то улыбнулся и придвинул стул к огню. Он посмотрел на стекла, дребезжавшие в оконных рамах, перевел взгляд на бревенчатый потолок и прислушался к диким завываниям юго-восточного ветра, дышавшего на мой домик своей свирепой пастью. Потом поднял стакан и радостно засмеялся, глядя сквозь золотистое вино на огонь в камине.
– Какая красота! – сказал он. – И какая в нем сладость! Это вино создано для женщин, его же и монахи приемлют!
– Оно родом с наших согретых солнцем холмов, – сказал я с простительной калифорнийцу гордостью. – Вы же проезжали вчера по здешним виноградникам.
Каркинеса стоило немного расшевелить. Да откровенно говоря, он становился самим собой лишь в те минуты, когда искрометное вино горячило ему кровь. Правда, он был художник – художник всегда и во всем. Но без вина мысль его работала вяло, и, трезвый, он бывал подчас удручающе скучным, точно английское воскресенье; разумеется, не таким, какими бывают по-настоящему скучные люди, а скучным по сравнению с тем Монте Каркинесом, который неизменно блистал остроумием, когда становился самим собой.
Из всего этого не следует делать вывод, будто Каркинес – мой любимый друг и верный товарищ – пил горькую. Отнюдь нет! Обычно он не позволял себе никаких излишеств. Как я уже сказал, Каркинес был художник. Он знал меру во всем, и этой мерой ему служило равновесие – то душевное равновесие, которым обладаем мы с вами, когда бываем трезвы.
Мудрая, инстинктивная воздержанность Каркинеса сближала его с эллинами, но во всем остальном он был далек от эллинов. Помню, он говаривал мне: «Я ацтек, я инка, я испанец». И действительно, в асимметричных, резких чертах его смуглого лица приглядывало что-то родственное этим древним племенам. Его широко расставленные глаза поблескивали дикарским блеском под крутым изломом бровей, и на них падала прядь черных волос, сквозь которую он выглядывал, точно плутоватый сатир из густых зарослей. Каркинес всегда ходил в бархатной куртке и фланелевой рубашке с красным галстуком. Этот последний предмет его туалета символизировал собой красный флаг (в Париже Каркинес близко сошелся с социалистами) и кровное братство всех людей. На голове он носил только сомбреро с кожаной лентой – ни в чем другом его не видели. Злые языки даже утверждали, будто он так и появился на свет в этом головном уборе. Мне же лично доставляло огромное удовольствие смотреть, как это мексиканское сомбреро подзывает кеб на Пиккадилли и как его швыряет из стороны в сторону в толпе, берущей приступом поезд нью-йоркской надземной железной дороги.
Я уже сказал раньше, что Каркинес оживал под действием вина – «подобно тому (говорил он сам о себе), как ожила глина, когда господь вдохнул в нее дыхание жизни». Увы! К богу Каркинес относился с кощунственной фамильярностью, хотя вообще-то в кощунстве его никто не мог обвинить. Он был натура прямодушная, но вся сотканная из противоречий, и людям, мало с ним знакомым, это мешало разобраться в нем. Да разве разберешься сразу в человеке то необузданном, как дикарь, то нежном, как девушка, то изысканном, как испанец! Но ведь он и сам называл себя ацтеком, инкой, испанцем!
А теперь я должен попросить извинения, что уделил ему здесь столько места. (Он мой друг, и я люблю его.) Итак, мой домик дрожал под порывами ветра, а Каркинес придвинул стул к камину и рассмеялся, подняв на свет свой стакан с вином. Он посмотрел на меня, и по тому, как весело блеснули его и без того блестящие глаза, я понял, что наконец-то мой друг настроился на должный лад.