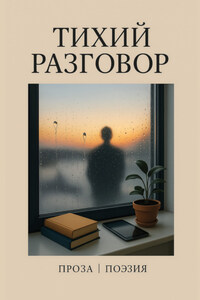Память умеет останавливать время.
Лето. Мне десять. Я, брат и сёстры на пруду. Не только мы тут, ещё половина деревни. Жара стоит страшная. Днём за тридцать пять уже две недели. Земля трескается, как краска на старых стенах. Земля похожа на соты, заполненные чёрным мёдом. Сохнут огороды, сохнет в полях пшеница. Все ждут дождя и каждый день ходят на пруд. Сидят в воде долго, часами. Выходят на берег не для того, чтоб погреться, в этой воде невозможно замёрзнуть, для того, чтобы поесть, позагорать, почитать книжку. Солнце над нами – злой, весёлый, хохочущий бог. Всё под его лучами выглядит горячим. Воздух истекает жаром. Стрелки часов перемешивают горячий бульон дня.
Мы братья-сёстры, мы дети, мы играем в мяч. Наш визг разбивается о берега и пропадает в зарослях прибрежных трав – лебеды, крапивы, тимофеевки. От наших криков травы выстреливают в воздух крохотными облачками пыльцы.
У дна шныряют пескари и, если встать неподвижно, начинают искать что-то меж пальцев ног, увязших в иле.
Подкапываются под пятки, щекочут, но попробуй поймай. Не удастся.
Пескарь – красивая рыбка. Похожа на маленького осетра.
Я бью мяч. Он взлетает в воздух, и моя память останавливает его там. Она может держать его там сколь угодно долго. Вечность.
Я вхожу в эти зелёные воды пруда под солнечные, горячие, как банный пар, лучи. Иду меж детьми, застывшими в игре и с раскрасневшимися лицами взирающими на мяч.
Кто это? Неужели я? Да, наверное. Какой я был мелкий в десять лет. Но уже начал толстеть. Лет в семь-восемь был скелет скелетом, а тут смотри-ка…
Сестра Иринка. Почти ровесница. Уже начала оформляться фигура. Как и все, смотрит на мяч в небе. Это её мяч.
Вторая сестра, Оксанка. Совсем малявка. На ней и трусы-то сидят перекошенно. Тонкокостная, улыбчивая.
Колька, брат. Родился как-то неправильно, врачи во время родов вывихнули ногу. Так и проходил, хромая, до самого конца. Потому и тут стоит немного набок. Улыбается. У него вообще была одна из самых сложносочинённых улыбок, что я видел. Смотрит на мяч. Умер, чуть не дожив до миллениума. Работал в прокуратуре. Отправили шерстить Ростовское МВД. День и ночь жили под охраной. И так два года. Помножьте на то, что это девяностые и это Ростов. Врачи после вскрытия говорили, что он умер с сердцем восьмидесятилетнего старика. Но Колька всегда был впечатлительным. Мы оба были запойными читателями. Я стал писателем, его сгубило впечатлительное сердце.
Серёга. Крепыш. Мой ровесник, но мускулов раза в два больше. Деревенский. У него в жизни было два варианта – спиться или сесть. Урвал оба. Его сбила машина, когда он ехал пьяный на мотоцикле. Он тогда уже находился под следствием. Жёсткий был, интересный.
Виталик. Самый мелкий из всех здесь присутствующих, при том, что не самый младший. Быстро бегал. Очень быстро. Когда я увидел его, вернувшегося из армии, руки его были исполосованы поперечными шрамами. А тут он смеётся.
Солнце горит в вышине. Солнце поёт, хлопает себя по пьяному пузатому животу, пьёт жаркое вино.
Мяч падает в воду, и мы с визгом и криками бросаемся на него. Кто-то хватает мяч и, выбежав на мелководье, ударом ноги отправляет в небо…
Стой, время.
Вот эта соплюшка, Светка, начнёт лазить с мужиками в одиннадцать, в четырнадцать родит. Впрочем, сейчас она при семье, и всё плюс-минус хорошо.
Этот мальчик сторчится под занавес девяностых.
Этого забьют лопатой. Неизвестно кто. Ночи в деревне тёмные.
Этот побывает три раза в Чечне. Первый раз по призыву. Два – добровольно, по контракту. Жив-здоров до сих пор. И дай ему бог…