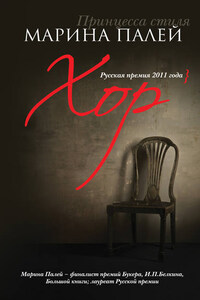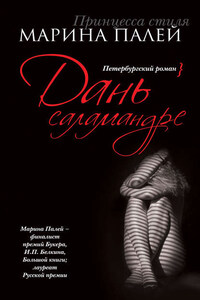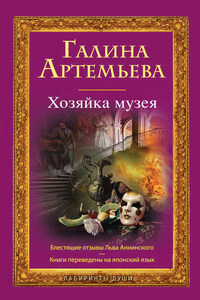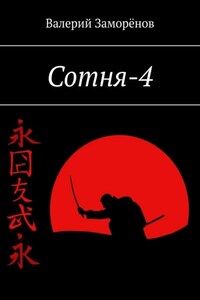Кабирия с Обводного канала
Когда не было рядом мужчин, или голосов мужчин, или мужского запаха, она сидела, развалив колени, и вяло колупала ногти.
Ее звали Раймонда Рыбная, в быту – Монька, Монечка. Фамилию она заполучила от мужа – именем была обязана своей мамочке, а моей тетке, Гертруде Борисовне Файкиной. Тетка от природы была наделена сильным тяготением к красивым предметам, вследствие чего неизменно перевозила за собой с квартиры на квартиру (и тут же прибивала на новом месте): подобранный на помойке портрет писателя Хемингуэя, календарь за август 1962 года с лимонноликой японкой, полулежащей в чем родила ее мать, и трехрублевого Иисуса, страдающего на гипсовом кресте. Другой природной склонностью тетки была безудержная страсть к вранью. Усталые родственники говорили, что она врет как дышит. В результате этого ее пристрастия и родилось трогательное предание, согласно которому имя для дочери она подобрала исключительно в память о погибшем на фронте брате Романе. (Рассказывая, тетка, где надо, делала выразительные паузы.) Легенду портил маленький изъян. Дело в том, что у Гертруды Борисовны был сын, который появился на свет тоже после гибели своего героического дяди и, кстати сказать, до рождения Монечки, – ему Гертруда Борисовна подыскивала имя в диапазоне от Аскольда (Асика) до Эразма (Эрика) и окончательно остановилась на Нелике. Корнелий впоследствии стал милиционером.
А вот фотография. На ней Моньке лет четырнадцать – мне, соответственно, четыре. Мы стоим у заснеженной ели, возле дома деда и бабушки. У Моньки просторный лоб, на щеках ямочки, а глаза откровенно шельмоватые, точнее сказать, вполне уже блудливые глаза. Я прихожусь ей по пояс, гляжу взыскательно – и сильно смахиваю на умненькую, строгую и непреклонную старушку.
...Из мириад разлетевшихся осколков поток забвения возвращает почему-то тот, на котором Гертруда Борисовна собирает Моньку в пионерский лагерь.
Тетка стоит на кухне, деревянной ложкой торопливо запихивая в банку из-под компота рубиновый винегрет и, с красивым оттенком фатальности, очень громко, благо соседи ушли, кричит дочери через всю коммуналку:
– И чтобы ты помнила?! Я в шестнадцать лет выпила только одну рюмку!! И вот с этой рюмки был Нелик!!
Но Монька уже несется с фанерным чемоданчиком по берегу Обводного канала.
Она бежит, улыбаясь, приплясывая, подол юбки, как всегда, намного выше ординара, Монька не меняется, ей вечно четырнадцать, – меняются лишь плакаты и лозунги (они плоховато видны мне за пеленой времени, пыли, сизых выхлопов и заводских дымов): вот человек в тяжелом скафандре осеняет ее римским жестом победы, жест перехватывает орденоносный дядечка с толстыми, как усы, бровями – она бежит, улыбаясь, приплясывая, кривые на диаграммах неуклонно ползут вверх, мелькают указатели, канал трудно проталкивает невесть куда мутные свои воды – она бежит, улыбаясь, приплясывая, идеальный юноша показывает белые зубы, пять в четыре, и вот уже олимпийский медведь, вознесенный над морем караваев и кокошников, старательно копирует жест космонавта, дядечки, юноши, – она бежит, улыбаясь, приплясывая, вдоль обочины однообразно тянется красный частокол: XXVI XXVII XXVIII, на бегу она подхватывает прутик и громко делает по забору др-р-р-р-р-р-р!! Внезапно парапет обрывается, и плоский, непривычно пустынный берег заманивает ее к тусклой воде. Она завороженно глядит в тающее свое отражение... Плеск одинокого весла особенно отчетлив в этом душном беззвучии. «Плату», – на языке немых требует гребец. Она бросается к чемоданчику. Фонтаном взлетают зеленые, зашитые синим чулки, красная юбка с булавкой вместо застежки, танкетки, косметичка, застиранный лифчик с отодранной бретелькой, попугайского цвета кофточка в треугольных следах утюга, газовая косынка, трепаные ботинки, рыжее, в катышках шерстяное платье, взмахнув рукавами, выставляет темные полукружья подмышек... «Не надо», – беззвучно говорит гребец. Она обиженной дудочкой вытягивает губы... Растерянный взор ее плавно перетекает в томный, озороватый, кокетливый и, наконец, откровенно зазывный. Она игриво хихикает и многозначительно лыбится. Гребец недвижен и стар. Сияя, она сощуривает свои зенки – в них яростно пляшут эскадроны синих чертей – и, прикрывшись ладонью, шепчет ему какие-то словечки, мне не слышно какие... Гребец начинает хохотать. Он хохочет долго, облегченно – впервые за тысячелетия однообразного безрадостного труда. Его громкий хохот взрезает бурую тушу заката, и солнце, скандально нарушая вселенский закон, резко дает задний ход, на миг озарив быстротекущую воду... Годится, бодро говорит перевозчик. Он даже слегка молодеет.