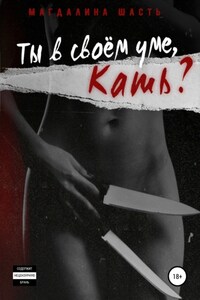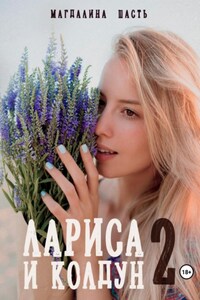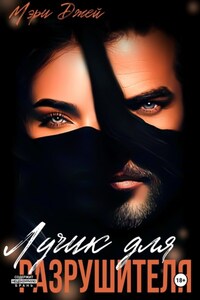Ты – воровка, я – первый красавец,
Между нами – беззвёздная ночь.
Для тебя я подлец и мерзавец.
Для меня ты соляркина дочь.
Быть с тобой – наказанье и мука,
И зачем я терплю этот стыд?
Ходит дьявол за мною по кругу,
Окликает и снова молчит.
Быть с тобой, потерять опасаясь,
Не соперничать и уступать?
Ну, уж нет! Не смогу я, не справлюсь –
Не хочу я себя потерять.
Ты запала мне в душу занозой,
И сдаюсь я, глупец, и терплю,
Ты прости, моя майская роза,
Что уйти не могу и… люблю…
Слёзы душили. Гнетущая тишина и непередаваемая, невыносимая боль в груди заставляла сходить с ума и молить Господа о пощаде. В чём она, маленькая, похожая на вихрастого пацана женщина виновата? В том, что не такая, как все? Да, бабы в их селе надевали по выходным платья и сарафаны, и туфельки на каблучке, и цветастые платочки, и лишь она одна, Манька Рукавица, носила перешитые дедовы брюки и плотные мужские рубахи.
Да потому что неудобно в юбке ни мотоцикл оседлать, ни на дерево залезть, ни картошку из соседского погреба вынести. А как в платье утюги чинить? Да никак! Ни гвоздь в стену забить, ни забор поправить, а свинью зарезать тем более не выйдет. Особенно, когда свинья соседская, и действовать нужно стремительно.
– Я хочу нормальную бабу, – сказал ей по утру муж Петя, – А ты, Маня, как мужик. Я с тобой не живу, а во всём соревнуюсь. Надоело. Хочу, чтоб моя жена дома сидела: борщи варила и пироги пекла, а не шлялась ночами по колхозам в поисках металлолома. Где это видано, чтобы баба себе мотоцикл из ржавых запчастей собирала? Кулибин ты, а не женщина, – он быстренько закинул свои нехитрые пожитки в походный рюкзак и ушёл, оставив Маньке и деревянный дом с перекосившейся крышей, и загаженное куриным навозом подворье, и заросший сорной травой сад.
Манька была редкостной засранкой, а Петя и вовсе к работе не стремился, и единственное, что более-менее хорошо у них шло – это самогоноварение.
Манька тонко и жалобно заголосила, срываясь на пронзительный, полный боли и ненависти визг. При всём своём хулиганском характере, женщиной она была ранимой, и к любимому мужу успела прикипеть всем сердцем.
– Хряк! Хряк толстокожий, будь ты неладен! – вопила она, вырывая из своей чумной головы и без того негустые русые волосы, – Чтоб тебя, чтоб! И зачем я тебе, Петька, поверила, ведь знала же, что ходок из ходоков?!
Внезапная догадка заставила её притихнуть, а потом выбежать из пахнущей дрожжами и брагой избы в грязный, плотно заросший сорняком двор, хлюпая худыми галошами.
Женщина бросилась в свою убогую летнюю кухню и остановилась перед керогазом, на котором они с вероломным муженьком варили свой знаменитый на всё село самогон.
– Змеевик спёр, стервец! Новый змеевик. Ах, ядрёный хрен, чтоб ты сдох! Как жить-то теперь? Как жить? – неистово орала безутешная хозяйка, когда на крики подоспела одна из её закадычных подружек Вероника Попова.
– Мань, чё орёшь? – спросила та, пряча светло-карие глаза. По правде говоря, Панова пришла к Рукавице не просто так, а с целью разведать обстановку. Манькин неверный Петька к ней с прошлогодней весны похаживал, а теперь, с какого-то перепугу, планировал плотно обосноваться. Только ладная и пригожая Вероника своего мужика из мест лишения свободы ждала и красивому, но ленивому Петьке была не больно рада. Если дойдут до её хмурого мужа-сидельца пикантные слухи про их с Петей чудесные шашни, то мало не покажется ни изменщице, ни её любезному другу – муж у Поповой мужик серьёзный и юмора совершенно не понимает. Шутка ли, у человека вторая ходка и снова за мордобой.
– Чё-чё, огурец через плечо, – сплюнула Манька на земляной пол по-мужски, но тут же по-женски горько всхлипнула, – Бросил меня Петя, вот чё. Обозвал Ку-ку-ли… Мужиком каким-то, будь он неладен, и ушёл от меня, сволота подзаборная. Узнаю, кто приютил, убью, – она скосила глаза, как будто что-то заподозрила, развернулась и пристально на Веронику глянула, – Знаешь чё-нибудь про Петьку? Говори сейчас. Всё равно люди доложат, – Манька сдвинула свои густые, неухоженные брови и стала лет на десять старше, – Я, между прочим, от Петьки ребёночка жду.