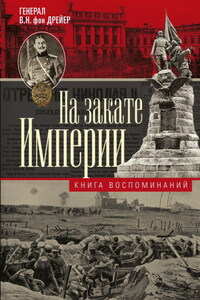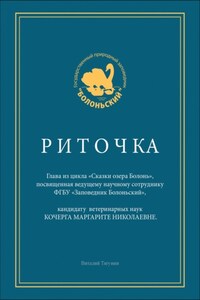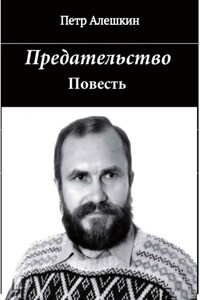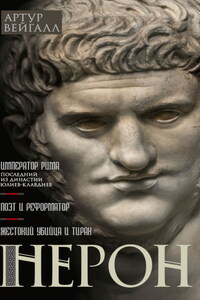С тех пор, что я себя помню, передо мною встают образы писателей, художников, музыкантов, артистов и ученых.
Я еще не умел ни писать, ни читать, когда сидел на коленях И.С. Тургенева и слушал, ничего не понимая, как Некрасов читал в кабинете моего отца свои последние стихотворения. Ребенком я видел так называемых людей 60-х годов. Они разделялись на два лагеря – славянофилов и западников. Во главе славянофилов стоял Самарин, западниками были Грановский, Герцен, Тургенев, Василий Петрович Боткин, Белинский и многие другие. Когда В.П. Боткин, старший брат моего отца, скончался, его приятели перенеслись в наш дом. Отец мой, тогда еще совсем молодой профессор Медицинской академии, был душой целой плеяды молодых русских ученых, которые собирались у него по субботам, вечером, и засиживались до поздней ночи. Поэты, музыканты, композиторы, драматурги и романисты смешивались на этих вечерах с докторами, химиками, физиологами и математиками, и все вместе за большим овальным столом представляли собой в высшей степени своеобразное сборище.
– Как это так произошло, – спрашивали моего отца, – что ваш приятель профессор химии Бородин сделался знаменитостью как композитор, заслуженный профессор зоологии Вагнер написал прелестные фантастические сказки для детей, а Цезарь Кюи, читающий фортификацию в Михайловской артиллерийской академии, сочиняет романсы?
– Все это результаты субботних вечеров, – шутил мой отец. – Когда музыканты, литераторы и ученые садятся за один и тот же стол и пьют чай из того же самовара, происходят метаморфозы – ученые становятся артистами и наоборот.
Отец мой сам был большим любителем музыки и играл на виолончели. Будучи чрезвычайно занятым человеком, он не мог отдавать музыке много времени, и потому техника его страдала, но музыкальное чутье было так развито, что он мог на своих вечерах участвовать в квартетах, не отставая от больших артистов.
Я слышал Антона Рубинштейна прежде, нежели мог оценить полностью его громадный талант, но помню, с каким благоговением внимали игре его все наши гости; я вижу, как теперь, перед собой Рубинштейна, вдохновенного за роялем, с головой, напоминающей Бетховена, потрясающего длинными прядями черных волос, причем он слегка рычал, как большая сенбернарская собака, ударяя по клавишам мощные аккорды. Он обливался потом после всякого большого музыкального произведения, как, например, Венгерская рапсодия Листа, и группа дам, всегда следовавшая за ним, набрасывалась на него, ревниво сохраняя за собой прерогативы ухода за музыкальным гением. Знаменитая Лавровская пела у нас, Стрепетова декламировала, виолончелист Давыдов услаждал своим удивительным смычком, скромный и застенчивый Балакирев был нашим учителем музыки… все они были частыми посетителями субботних вечеров. Мой отец обладал необыкновенной притягательной силой. Всегда приветливый, радушный, он влиял на здоровых, как и на больных, чарующим образом, чем и объясняется, что на его субботний «огонек» стекалось все, что было в то время в Петербурге выдающегося. В атмосфере царила какая-то доброжелательная непринужденность, всем было уютно, приятно, весело… Артисты брались за свои инструменты не потому, что их просили играть, а потому, что им самим хотелось дать удовольствие собравшимся вокруг длинного стола гостям.
Я помню живописную лохматую голову профессора Менделеева, и добродушный смех закадычного друга отца моего знаменитого физиолога профессора Сеченова, и грозный кашель Салтыкова (Щедрина), и громкий голос Лихачева (городского головы Петербурга), и остроты адвоката Унковского, и рассказы Горбунова…
Когда Иван Федорович Горбунов был особенно в ударе, он изображал старого отставного генерала, недовольного современными порядками. Горбунов усаживался у самовара, пил красное вино и решительно на все и на всех брюзжал и ворчал. Особенно доставалось молодому инженеру, Виктору Александровичу Крылову, младшему брату моей матери. Крылов неожиданно выступил в качестве драматурга. Его пьесы с большим успехом шли в то время на Александрийской сцене, и тот же Горбунов в них играл.