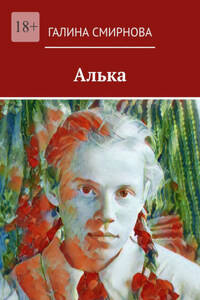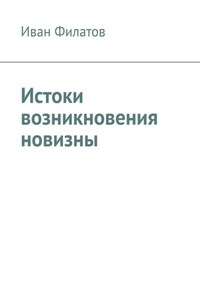Високосный год бывает один раз в четыре года. Святой високосного года был Касьян. Вот в такой-то год и угораздило меня родиться, и прозвали меня Касьянихой. Тамара говаривала, что он страшный, бородатый. Бывало, сидим мы на ступеньках сеновала, а Тамара, моя старшая сестра, говорит:
– Галька, гляди, твой Касьян на небе на тебя смотрит. Видишь, какая борода у твоего Касьяна.
Я таращусь на облака и вижу деда с огромной бородой. Но мне не страшно. Ведь я его дочка, как говорила Томка. И меня он оберегал. Как-то перелезала я через частокол, прыгнула, но зацепилась платьем за кол и повисла над ямкой с горячими углями. То ли платье спасло, то ли Касьян? Летом, когда мне было 6—7 годиков, тонула я на Черкесском (речная заводь реки Ворожи), но меня спасли… В Ленинграде, когда я жила там после 10-го класса, на меня наехала машина, но затормозила в одном сантиметре от меня, едва коснувшись плеча. Когда я работала в деревне заведующей избой-читальней, поехала верхом на лошади в соседнюю деревню. То ли подпруги развязались или оборвались, только я вместе с седлом поехала под брюхо лошади. Лошадь могла меня затоптать, но резко остановилась, замерла. Опять меня что-то спасло. Я даже не упала, а тихонечко спустилась на землю.
Оберегал меня Касьян. Ведь я Касьянова дочка! Касьяниха…
Враг подошел к Тихвину. А вскоре и к Устюжне, моему городу. Люди бегут из города.
– Манюшка, а что же ты не едешь?
– А куда я с оравой-то?
Семеро своих, да Ида Николаевна, дочь Клавдии, сестры отца… Двум смертям не бывать, а одной не миновать.
Так мы и остались в городе. Вскоре были слышны, словно гром, раскаты. Над городом залетали самолеты. Но не бомбили, а разбрасывали какие-то белые листки. Выли сирены. Сердце сжималось от ужаса. Хотелось забиться в какую-то щель.
– Не бойся, доченька, ляг между грядок, тебя и не заметят, – говорила, успокаивая меня, мама.
А вскоре во всех домах на нашей Театральной улице разместились солдаты на постой.
Мама варила двухведерный чугун картошки, а солдаты ели да приговаривали:
– Как манная каша! Как манная каша!
А потом кто-то из кармана доставал замусоленный кусочек сахара, весь в махре. Кто-то усаживал меня на ножку и качал, что-то напевая. Потом брали меня на руки и начинали рассказывать сказки. Странно, солдаты всегда были разные, но все они всегда совали мне кусочек сахара, качали на ножке и рассказывали сказку. А сказка была всегда одна и та же, про Красную Шапочку.
К лету на футбольном поле расположили машины. С солдатами мы играли в прятки. Искала всегда я. В кабинке слышалось: «Ку-ку». Я туда карабкалась. Пока залезу, там уже никого, уже слышно было «ку-ку» из другой кабинки.
А потом я «пекла пирожки» из песка для солдат. Они «ели» и хвалили. А я радовалась.
Скоро фронт откатился. И началась голодная зима. Картошка-то вся съедена.
Зима выдалась холодная и очень снежная. Сугробы были выше заборов. Волки приходили к городу. Помню, прибежала мама поздно вечером домой, она ездила менять свою одежду на картошку в деревню. Прибежала и говорит:
– Смотрите, волки! Да не бойтесь, они здесь нас не достанут.
Оказывается, они шли за ней следом, но не нападали. Она везла санки, а позади веревочка тянулась. Волки не нападают, если сзади что-то тянется.
Ближе к весне и вовсе тяжело и голодно стало. Мама возила с винзавода барду, отходы хлебные. Мне старались не давать. Все-таки пьяная… А однажды, когда мама ушла, сестренка старшая, Тамара, накормила меня этой бардой. Приходит мама, а я валяюсь.
– Что вы сделали? Что давали ребенку?