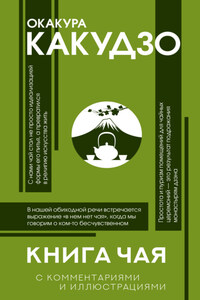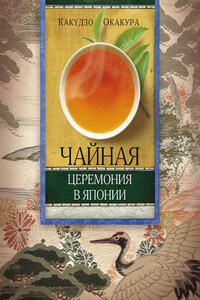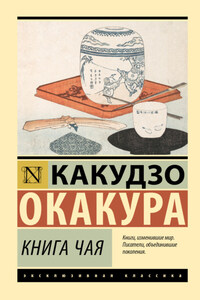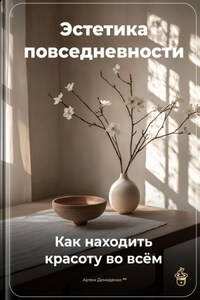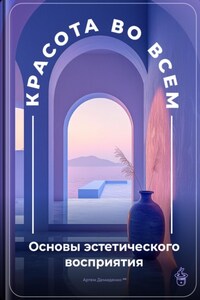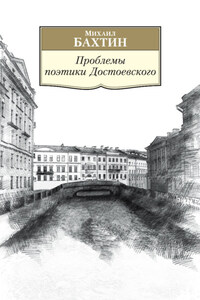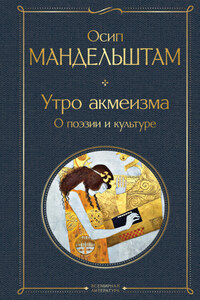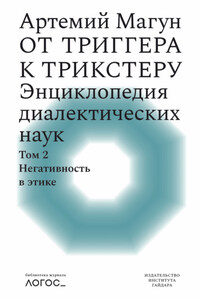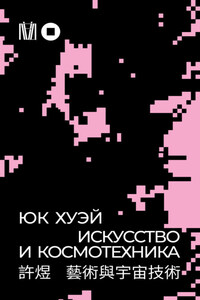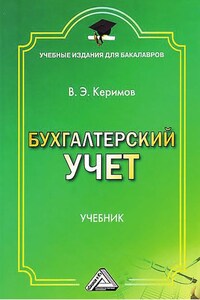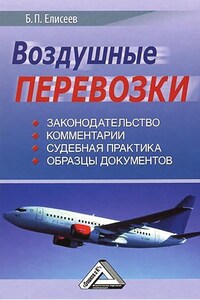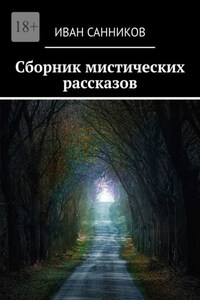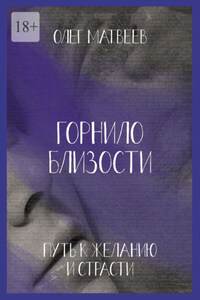Просветление через искусство
Какудзо Окакура (1863–1913) – японский философ и искусствовед, выделяется на фоне многочисленных ученых Страны восходящего солнца, которые рассказывали Западу о своей стране по-английски, по-французски или по-немецки. Прежде всего, он никогда не откликался на эмоциональные увлечения Японией, на то, что именуют «японизмом» (japanisme), который пленял и полунищих живописцев парижского Монмартра, и избалованных богачей Нью-Йорка с их покровительством дизайну и искусствам. Напротив, он подчеркивал технологичность Японии, которая способна соревноваться с Западом в искусстве; взять от Запада лучшее, но показать те достижения духа и смысла, которых Запад не знает. Его патриотизм был продолжением веры в диалог. Запад, усиленно интересуясь Японией, просто подключается к большому религиозно-эстетическому диалогу Индии, Китая и Японии, который шел многие века, и разумеется, старшим есть что сказать в этом диалоге.
Окакура никогда не романтизировал японское прошлое, то же самурайское рыцарство, просто потому, что соответствия японским явлениям он сразу обретал в китайском, индийском, арабском, персидском мире. Эти явления и проявления культуры сразу переставали быть экзотичными, становились закономерной частью мировой истории. Наконец, Окакура прямо относил себя к большому движению пацифистского пробуждения Востока, которое мы больше всего знаем по философам Индии, от поэта Рабиндраната Тагора до политика Махатмы Ганди. Такие пацифисты, видевшие будущую мировую историю как гармоничный концерт всех культур, которым дирижирует западное христианство, но где каждая религия и культура исполняет свою незаменимую партию, были и в Китае, и в Японии. Окакура, наверное, самый яркий из их числа – не будучи великим поэтом или политиком, он последовательно и добросовестно рассказывал о философии своей страны так, что и дело Ганди или разные варианты просвещения в арабском и персидском мире начала XX века становятся в этом свете понятнее и роднее.
Немного скажем о его жизненном пути. Еще будучи довольно молодым, в 1887 году, Окакура становится одним из создателей Токийской школы изящных искусств. Программа этой школы требовала археологических знаний, знакомства с произведениями древности, причем вовлеченного: нужно было уметь и развернуть бережно, и скопировать свиток, но также нужно было переизобрести общие правила изображения человека. Окакура отказался от академического стандарта рисунка, требуя от художников прежде всего быть реставраторами, уметь работать в том же темпе и с тем же настроением, с каким работали художники прошлого. В 1889 году он стал издавать искусствоведческий журнал, где пропагандировал древнее японское искусство, его идеи. Он обрушивался на подражателей западной манеры и говорил, что в их картинах Япония спит, тогда как изображения в японском стиле пробуждают Японию.
Как в «Синей птице» Метерлинка родители на том свете живут, когда о них вспоминают, так и в системе нашего автора когда художник вспоминает кого-то из предшественников, его стиль обогащает искусство. Не случайно Окакура много интересовался современной физикой, в частности акустикой и явлением резонанса, – возникает или возрождается что-то одно в искусстве, и начинает резонировать всё остальное. Возрождается какая-то одна манера, и всё искусство начинает откликаться. Вспомним, какое в нашей стране огромное влияние оказало открытие древнерусской иконы на становление русского авангарда: были открыты яркие цвета Древней Руси, и уже ни один художник не мог пройти мимо них.