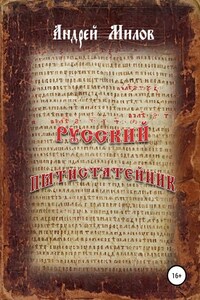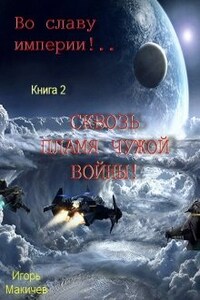На пороге повести
Без лица
Надо быть подло влюблённым в себя, чтобы писать без стыда о самом себе. Тем только себя извиняю, что не для того пишу, для чего все пишут… Если я вздумал записать слово в слово всё, что случилось со мной… то вздумал это вследствие внутренней потребности: до того я поражён всем свершившимся… С досадой, однако, предчувствую, что, кажется, нельзя обойтись без описания чувств и размышлений (быть может, даже пошлых): до того развратительно действует на человека всякое литературное занятие, хотя бы и предпринятое единственно для себя. Размышления же могут быть очень пошлы, потому что то, что сам ценишь, – очень возможно, не имеет никакой цены на посторонний взгляд… К делу, хотя ничего нет мудрёнее, как приступить к какому-нибудь делу, – быть может, даже ко всякому делу.
Ф.М. Достоевский. Подросток
Извилистая лента двухрядной узкой дороги, с разделительной сплошной полосой, сначала долго карабкалась в гору, вынуждая терпеливо волочиться вслед за какой-нибудь доходягой «Волгой», затем с ветерком увлекала с горы, чтобы тут же, завязав очередную петлю своего пути, ввинтиться в ещё более крутой подъём. По обеим сторонам дороги – то тут то там, то вверху то внизу – в отдалении были разбросаны безымянные новосёлки. Изредка асфальтное серое полотно надвое рассекало небольшую деревеньку. Они-то, эти деревеньки, да к тому ещё ручьи-речушки, своими привычными для нашего глаза и уха названиями ненавязчиво подсказывали, что ты не в Альпах, не на Пиренеях, даже не в Крыму или на Кавказе, а, несмотря на серпантин горной по всем признакам дороги, на великой русской равнине, где вдруг причудливым образом смешалось всё: и природа, и нравы, и стили, и даже времена – старые и новые.
Вот в приоткрытое окно пахнуло печным дымком, повеяло горелой листвой от костра, и впереди за поворотом, пестря красными и зелёными крышами, щерясь башенками, эркерами, фронтонами, трубами да сплошными заборами, оградившими от мира пяди земли с небезыскусно возведёнными на них постройками, на взгорье показалось село. В строительных лесах полуразрушенный купол церкви, какие-то вековые развалины за ней – то ли колоколенки, то ли часовенки. Село располагалось на самой вершине самого высокого из всех окрестных холмов, с которого открывался вид на бесконечные холмистые дали – в багряных и в жёлто-зелёных заплатах осени побуревшие леса да проплешины пожухлых лугов средь них.
На росстани, изогнувшись, главная дорога круто приняла влево и по дуге чуть назад, чтобы, пробежав по пологому равнинному склону с десяток километров, своим обратным концом вернуться к шумному шоссе, – вправо загогулиной шмыгнула лента неровного асфальта, сузившаяся до одного единственного ряда в обе стороны и местами едва не растворяющаяся в широких суглинистых обочинах. Будто по волнам и порогам, подобно горному ручью, она стремительно увлекала вниз, в овраг, к сырому подножью. Оскалившись на прощанье щербатой ухмылкой серых замшелых кровель да покосившейся на склоне оврага изгороди, село на задворках кончалось заброшенной фермой, уткнувшейся в песчаный карьер.
Вскоре за карьером асфальт неожиданно заместился булыжником. Веками тёртая, скоблёная гладь булыжной мостовой – тем не менее тряская и шумная – неизменно вела под уклон. Один за другим замелькали дорожные знаки: «Кроме грузового транспорта», «Проезда нет», «Тупик» и наконец: «Лес – наше богатство», с изображением перечёркнутой горящей спички. Могучие ели всё теснее жались к каменному полотну, в приветствии покачивая мохнатыми лапами. При взгляде назад уж не видать за вершиной холма ни села, ни солнца, да и сама, кажется, цивилизация отступила за хмурый горизонт.