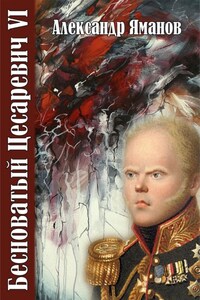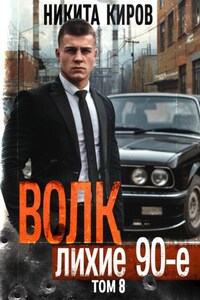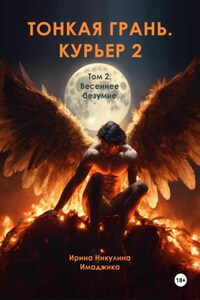28 декабря 1941 года. Москва
В себя я прихожу от какого-то неудобства. Не сразу понимаю, что это: состояние, как с бодуна, когда мало что соображаешь и помнишь. Первым приходит осознание, что хочется в туалет – стравить давление в клапанах. Только где я – вот в чём вопрос. И где здесь туалет, кстати?
Открываю глаза – надо мной белый потолок и солнечный зайчик. Потолок, кстати, высокий. Тянет морозной свежестью – видимо, открыто окно или форточка. Пытаюсь встать, но ничего не получается. Да, а что со мной произошло? Кроме этого пытаюсь вспомнить и кто я такой. В голове крутятся две разные личности, и вроде каждая из них я. Я что, шизофреник[1]?
Наконец мои мозги приходят в норму, и я всё вспоминаю. Вспоминаю, что теперь я полковник Игорь Николаевич Прохоров, а вторая моя половина осталась в прошлой жизни и прошлом мире. Вспоминаю и разрыв снаряда неподалёку. И сразу пронзает испуг: я что, парализован?! Сжимаю пальцы рук – работают. Пытаюсь проделать то же с ногами – одна из них неподвижна, другую удаётся слегка согнуть в колене. Ух, нет, тело слушается, пускай плохо, но тем не менее. Вот только сил приподняться у меня нет.
Тут до меня доходит, что в палате – а где я ещё могу быть, спрашивается? – работает тарелка радио и Левитан зачитывает очередную сводку Совинформбюро. Жаль, я не историк, а потому понять, как изменилась от моего вмешательства история, я не могу. Разве что остались в живых некоторые командиры, да немцев остановили чуть ли не в сотне километров от Москвы.
Тут открывается дверь, и в палату входит санитарка. Ну что можно сказать? Я пропал. Смотрю в её зелёные колдовские глаза, на тонкие, красивые черты лица, и хочется только любоваться всем этим, как произведением искусства. Пытаюсь с ней заговорить, но в горле пересохло, так что в итоге получается лишь нечленораздельный хрип.
– Вы очнулись?! – слышу радостный возглас санитарки. – Сейчас, миленький, сейчас, потерпи чуть-чуть.
Санитарка бросается к тумбочке и, взяв поилку, поит меня, при этом одной рукой приподнимая мне голову, чтобы мне было удобнее. Делаю несколько жадных глотков, и сразу становится легче, а главное, теперь я могу нормально говорить, пускай медленно и тихо, но все же.
– Сестричка, мне бы в туалет, помоги встать, будь добра.
– Забудьте, больной! Вы ещё очень слабы, вам нельзя вставать.
– Да у меня сейчас пузырь лопнет.
Санитарка наклоняется и, что-то взяв под кроватью, суёт мне под одеяло. И тут я понимаю, что это утка, и санитарка уже пристраивает её под моего шалуна. Стыдно – не то слово. Санитарка-то совсем молодая. И как мне после такого с ней говорить, а тем более ухаживать за ней?
– Ну же, давайте, не стесняйтесь, – говорит она мне.
А терпеть нет больше мочи, и я делаю это в утку. Делаю, а сам готов под землю от стыда провалиться, да только выхода другого у меня нет. Заканчиваю, и санитарка ловко выдёргивает утку. А я с ужасом думаю: что делать, когда мне по-большому приспичит? И ведь никуда не денешься. Одна надежда, что силы быстро вернутся, и я смогу сам ходить в туалет.
А санитарка тем временем шустро уносится из палаты, однако через пять минут возвращается снова, но уже не одна, а с врачом. Уставший мужик лет под сорок, хотя могу и ошибаться, осматривает меня, проверяет реакцию конечностей, делает ещё несколько только ему понятных манипуляций.