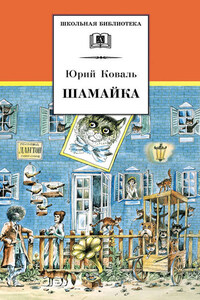Пролог
Петька Викулов по прозвищу Патефон
1
Город наш потому, наверно, и называется Старотополь, что здесь много столетних тополей. Других старых деревьев тоже много, но тополей больше всего.
Правда, цвели они в то давнее лето жидковато: в воздухе только редкие пушинки. Зато листва выросла густая. Тесный заросший двор наш в то утро был весь в тени.
Я глянул на двор из-за двери. Тетя Глаша снимала с веревки высохшее белье. Дядя Костя у сарая возился со своим трофейным мотоциклом. На крыльцо они не смотрели. Я кошачьими прыжками достиг приоткрытой калитки, и вот – на свободе. Торопливо дошагал до перекрестка. И прежде чем уйти за угол, оглянулся на деревянный двухэтажный наш дом – пожилой, кособокий, но такой привычный…
Потом я свернул на Гончарную. И почти сразу:
– Эй, Патефон! Куда топаешь? – Это Гришка Гаврилов из нашего класса.
Я сказал неласково:
– На Кудыкины горы воровать помидоры…
Гаврилов был с круглой стриженой головой, полноватый и вроде бы добродушный. Но я его не любил. Помнил, как осенью, когда били Турунчика, он сопел и протискивался без очереди, чтобы ударить поскорее. («А сам-то, – безжалостно сказал я себе, – лучше, что ли, был тогда?» И разозлился на себя и на Гришку.)
Гаврилов улыбался. Он был не очень-то самолюбивый.
– А что это у тебя? – Он пухлым подбородком показал на картонную коробку: я нес ее под мышкой.
– Любопытному Гавриле знаешь что отдавили?
Тогда он все же обиделся. Отошел, сообщил через плечо:
Патефон-скрипучка,
Сбоку в дырке ручка.
И зашагал поскорее.
Я был в классе не из драчливых, даже наоборот. Но будь сейчас у меня свободные руки, показал бы я Гавриле «ручку в дырке»! Последнее время я легко стал «заводиться»…
А впрочем, наплевать. Патефон так Патефон. Теперь-то не все ли равно?…
Эту кличку мне приклеили прошлой весной, когда узнали, что я занимаюсь в Доме пионеров, у Длинной Эльзы. Эльза, чтобы набрать себе в певцы голосистых мальчишек, ходила по школам, сидела на уроках пения, прислушивалась, приглядывалась. Таким образом и меня разглядела.
Вообще-то я петь стеснялся. Но бывало, что, если все кругом поют и песня хорошая, я забывал про смущение и что-то прорезáлось в голосе…
В хор я, конечно, вовсе не стремился, но Эльза умела уговаривать. К тому же если занятия – значит, меньше буду сидеть дома под бдительными взглядами тети Глаши…
Да и ребята в хоре были добрее, чем в классе. Без всяких прозвищ тут обходилось, без дразнилок и надоевшего в школе нахрапистого приставания. А со смуглым быстроглазым Валькой Сапегиным стали мы даже приятелями.
И петь мне понравилось.
Эльза как-то обмолвилась, что «когда этот мальчик поет, у него распахивается сердце».
Всякие там сольфеджио и нотную грамоту я терпеть не мог, но строгая седая Эльза почему-то мне это прощала. И все чаще поручала мне быть солистом.
Разные у нас были песни: и пионерские, вроде «Эх, хорошо в стране советской жить», и про недавнюю войну, и «Во поле березонька стояла», и «Веселый ветер»… Многие из них я любил.
А больше всех – «Орленка». Эту песню я начинал один, а хор вступал постепенно. Как запоешь: «Орленок, орленок, взлети выше солнца», так сразу – и печаль, и смелость, и звон такой в душе…
А потом появилась еще одна песня, самая для меня хорошая… Но все это было раньше и осталось позади. Все позади…
Так, размышляя о прошлом, прошагал я всю Гончарную и вышел на Зеленую, односторонку, к берегу городского оврага. Недалеко был завод «Красный химик».
Сквозь бурьян, без тропки, я спустился по склону метров на пять. Татарник цапнул меня колючками за щиколотки, но не сильно, а так, для порядка. Словно предупреждал: «Не будь растяпой, оглянись». И я оглянулся. Но никого не было поблизости, только желтая бабочка летала над чертополохом.