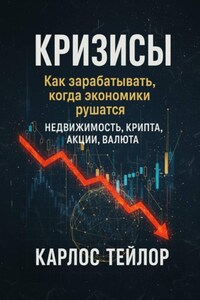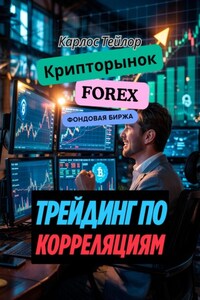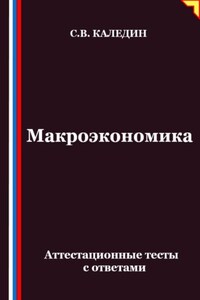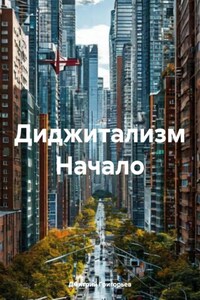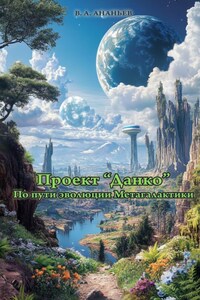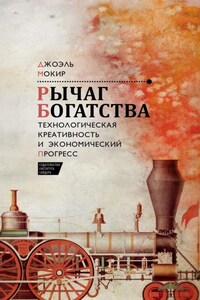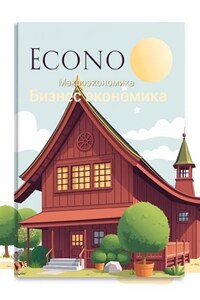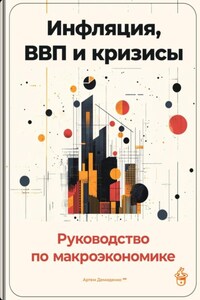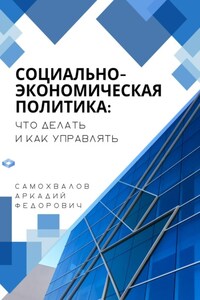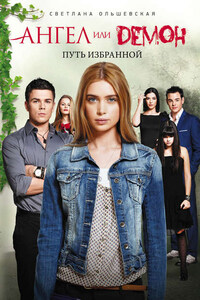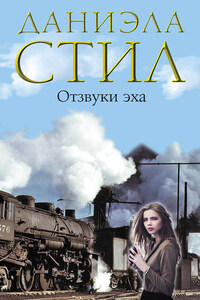Введение. Почему кризисы – это возможности
Когда фондовые рынки падают на 30% за несколько недель, большинство людей видят катастрофу. Их сбережения тают, новости пестрят заголовками о банкротствах, друзья и коллеги обсуждают, сколько они потеряли. В такие моменты кажется, что единственный разумный вариант: продать всё, что можно, и переждать бурю с наличными под подушкой. Это понятная, естественная реакция. Но это также именно та реакция, которая отделяет тех, кто теряет капитал в кризисы, от тех, кто его создаёт.
История финансовых рынков показывает поразительную закономерность: величайшие состояния были созданы не в периоды экономического процветания, а в моменты максимального хаоса. В разгар Великой депрессии 1929 года, когда американские банки закрывались сотнями, а безработица достигала 25%, Джозеф Кеннеди увеличил свой капитал во много раз, используя короткие продажи и покупая подешевевшие активы. В 2008 году, когда рушился Lehman Brothers и мировая финансовая система оказалась на грани коллапса, хедж-фонд Джона Полсона заработал пятнадцать миллиардов долларов на ставках против ипотечного рынка. В марте 2020 года, когда пандемия COVID-19 обрушила фондовые индексы на 30% всего за месяц, тысячи частных инвесторов купили акции технологических компаний по распродажным ценам и удвоили, утроили свои вложения за год.
Эта книга родилась из простого наблюдения: кризисы неизбежны, но готовность к ним встречается редко. Каждые семь-десять лет экономика проходит через серьёзное потрясение. Это не аномалия и не результат чьих-то злонамеренных действий. Это естественная часть экономических циклов, такая же предсказуемая, как смена времён года. Бумы сменяются спадами, эйфория уступает место панике, активы дорожают до абсурдных уровней и затем возвращаются к реальности. И всё же подавляющее большинство людей встречает каждый новый кризис неподготовленными, совершая одни и те же ошибки, которые совершали их предшественники десятилетия назад.
Причина не в недостатке интеллекта или образования. Проблема в том, что экономические кризисы вызывают у нас эмоциональные реакции, которые перевешивают рациональное мышление. Страх потери активируется гораздо сильнее, чем желание заработать. Когда все вокруг паникуют, очень сложно сохранять спокойствие. Когда авторитетные эксперты говорят о конце света, трудно увидеть возможности. Наш мозг эволюционировал для выживания в саванне, где бегство от опасности было лучшей стратегией. Но на финансовых рынках инстинкт самосохранения часто работает против нас.
Статистика это подтверждает. Исследование поведения частных инвесторов во время кризиса 2008 года показало, что более 60% продали часть или все свои акции в период с сентября по декабрь, когда рынки уже упали на 40%. Они фиксировали убытки в самой низкой точке. Многие из них вернулись на рынок лишь в 2010-2011 годах, когда индексы уже восстановили большую часть потерь. Результат: они потеряли и на падении, и на росте. В то же время профессиональные фонды и опытные инвесторы покупали активы в том самом декабре 2008 года и феврале 2009 года. За последующие три года индекс S&P 500 вырос на 100%. Разница между победителями и проигравшими определилась не знанием сложных финансовых инструментов, а способностью контролировать эмоции и действовать рационально, когда все остальные теряли голову.
Возьмём другой пример. В марте 2020 года, когда пандемия только начиналась, индекс NASDAQ упал с $9000 до $6900 пунктов за три недели. Акции технологических гигантов, таких как Amazon, Apple, Microsoft, потеряли от 25-35% стоимости. Через девять месяцев эти же акции торговались на 50-80% выше мартовских минимумов. Люди, которые купили в панике марта 2020 года, заработали больше за год, чем другие инвесторы зарабатывали за пять-семь лет обычного роста. И это были не профессиональные трейдеры с Уолл-стрит. Многие из них: обычные люди, которые понимали простой принцип. Качественные компании не теряют своей ценности из-за временного шока. Если бизнес-модель сильна, активы продаются со скидкой только потому, что толпа паникует.